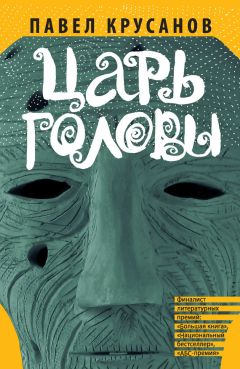– И наконец, – большой палец Капитана вздрогнул, – Россия – свободное государство и иным быть уже не может.
Мне показалось, что это положение нуждается в обосновании. Впрочем,
Капитан тут же его предоставил. Он сказал, что у нас есть права и свободы, которые мы никогда не согласимся отдать, ибо тогда это будем уже не мы. Речь не о законах или сиюминутной практике власти, подчас просто не осознающей собственную миссию, – наша свобода вполне может с ними не совпадать. Нам не слишком важно, будут ли губернаторы и другие высшие чиновники выборными или их назначат, но мы не позволим себе и не простим им отказа от принципа сугубой личной ответственности и забвения истины, что служат они не господину и должности, но самому служению. В этом месте Капитан ткнул указательным пальцем руки, которой не считал доблести национальной идеи, в потолок, после чего продолжил речь. Он сказал, что нам плевать также на то, кто владеет СМИ, но мы не желаем слышать оскорбления России ни от ее врагов, ни от людей, просто не понимающих, что правда, сказанная без любви, это и есть ненависть, и мы не желаем смотреть на лоснящихся эстрадных идиотов, отсутствие мозгов сделавших для себя источником заработка. И, разумеется, мы никогда не откажемся от права свободно колесить по своей стране, которой тесно в ее одиннадцати часовых поясах, и мы не откажемся от личной инициативы и частного предпринимательства, которое тоже есть наше неотъемлемое право, а не волевое решение правительства. И, наконец, мы вольны любить и ненавидеть – любить и ненавидеть так, чтобы в горах сходили лавины, а воздух становился золотым от сгущенного в нем электричества.
– Это пять. – Капитан покачал в пространстве до конца сложенным кулаком.
Мне было хорошо и радостно, как будто в этот миг кто-то молился за меня, вымаливая мне покой. Молился, и молитва доходила… Я испытывал безадресную благодарность, и мне ужасно хотелось жить.
– Как скоро мы окажемся в этом русском раю?
– Середка уже такая, – сказал Капитан. – Дойдет волна и до закоулков. Если ты согласен участвовать в этом проекте, – я был согласен и молча кивнул, – а по существу это все тот же проект, все тот же “Другой председатель”, мы дело здорово ускорим. Через год мы не узнаем свою страну.
“Хорошо ли это – не узнать свою страну?” – подумал я, вспоминая хеттов на Десногорском водохранилище, пьющих водку под полуденным солнцем. Я колебался, но Капитан перебил работу моей неоформившейся мысли.
– Да, чуть не забыл – с днем рождения! – Он, как прежде Оля, вынул из кармана халата жука, упакованного на картоне в хрустящий целлофан.
Ничего иного ожидать от него и не следовало: Капитан вручил мне гигантского голиафа – того самого, про которого в “Курсе теоретической и прикладной энтомологии” Холодковского 1896 года издания сказано, что он величиной со снегиря. Это был самец с хорошо развитыми рогами на голове, весь матовый и бархатистый, с красно-бурыми, отороченными сверху светлой каймой надкрыльями и черной в белую полоску переднеспинкой. Родом голиаф был из
Экваториальной Африки, где эти жуки летают бандами по девственному лесу, кормясь нектаром в кронах цветущих деревьев. Вниз, в нашу юдоль скорбей, они спускаются довольно редко, так что по большей части их выводят из куколок, которые находят в гниющих стволах. Я знал, что хорошо сохранившиеся экземпляры голиафов встречаются в коллекциях нечасто, так как поверхность их тела легко повреждается – светлые места сплошь и рядом поцарапаны, а темные и бархатистые из-за неосторожного обращения затерты до блеска, – но этот был почти что девственно прекрасен. Когда я благодарил Капитана, у меня, кажется, навернулась на глазу слеза.
– Ты не думал, – сказал он, стойко вынеся мою признательность, – что сейчас у тебя есть отличный шанс ступить на путь Патрокла
Огранщика? – Капитан неопределенным жестом обвел больничную палату. – Ведь можно так устроить дело, будто ты, разбившись всмятку, умер.
Признаться, эта мысль мне в треснувшую голову не приходила.
– А как же Оля? – Вопрос сам собой вырвался из моей груди.
– Ты ждешь от этого альянса чего-то, что с вами еще не случалось? Я, помнится, говорил уже, что кофе и любовь должны быть горячими.
Взгляни – твоя любовь тепла, как куча навоза на огороде, куда откладывают яйца змеи.
Я простил Капитану эту дерзость. Потому что он не знал, что между нами еще не случалось, но в светлом будущем случится. А я знал. Сын.
Между нами случится сын. Как минимум один сопливый обормот, ради которого мы ничего не пожалеем, которого воспитаем, как Гая Сцеволу, и для которого соорудим родину – ту самую Россию, Рим в снегу.
Россию, которая будет такой, какой быть должна, и никакой другой.
Кроме того, пусть и невольно, но это именно я убил Капу – встать сейчас на путь Огранщика – значит, трусливо бежать, малодушно спрятаться от этой безжалостной истины.
– Нет, – сказал я, – я останусь Евграфом Мальчиком. Я еще не достиг вершины и поэтому хочу участвовать в проекте дальше. Я готов вместе с тобой переписывать матрицу мира.
Капитан смотрел на меня с лукавым сомнением.
– А как быть с жучиным питомником? Мое слово крепче гороха – представь смету, все будет оплачено. – Он покачал головой, он колебался. – Ты хочешь участвовать в проекте дальше… Скажи на милость, как я запущу в тебе пружину деятельности? Ведь теперь ты уже не станешь меня ревновать.
– Я буду сам работать как бешеный! – Эти слова сказались искренне и с жаром. – И питомник тут не помеха – это вещи совместимые.
Увидишь – меня уже не надо будет дразнить и погонять.
– Ну что же, – Капитан улыбнулся, перестав меня поддразнивать напускным сомнением, – процесс запущен. Нам остается лишь по случаю вносить поправки. Вливайся.
И мы ударили по рукам.
Однако какой-то червь сомнения точил мне печень. Что-то не позволяло в окружающем пространстве сгуститься блаженной безмятежности. Что?
Это были не увечья и не нравственные муки. Что тогда? Я понял:
Капитан практически добился своего, и если дальше – небеса, то он в любой миг сам может умереть, чтобы на стезе вольного камня начать шлифовать в себе новую грань. Не осиротеет ли тогда преображенный мир? Не упадет ли своим непомерным грузом полностью на мои плечи, на мое поломанное тело? Не подомнет ли? Не раздавит? Смогу ли выдержать?
Как ни странно, осознав тревогу, я тут же от нее избавился.
Прояснившись, она рассосалась, растаяла, не оставив по себе следа. Я был – тревоги не было. Это меня приятно удивило: все, я действительно больше не боялся испытаний и авантюр, я осознавал уже не разумом, а всем своим существом – они не более чем способ обрести достоинство. Я готов был действовать так, как будто в моих поступках есть смысл и цель. Я больше не колебался. Я прошел испытание жертвой. Я чувствовал себя легко и свободно.
Что это значило? Незаметно для себя я превратился в запредельщика? К этому следовало привыкнуть.
То ли показалось, то ли действительно – мир вздрогнул. По всему его телу, по всем планам его бытия пробежала мгновенная судорога. Или это вздрогнуло лишь мое существо, в котором безвозвратно сместились какие-то фундаментальные пласты, напрочь изменив всю мою несовершенную структуру? Я посмотрел в окно. Небо было прозрачно-багряным, и по нему плыл змей – настоящий дракон, каких художникам и вышивальщикам Поднебесной запрещалось изображать безупречно, – ведь безупречное изображение вполне может ожить. Хотя бы в одном штрихе или одном стежке мастеру непременно следовало напутать. Но этот дракон ожил. Он грациозно распластался в небе, грозный, но не угрожающий, и, извиваясь, плыл по тверди, как по багряному шелку, поднимая красивые, покатые, лоснящиеся волны.
Видение навело меня на забавную мысль: если ты знаешь, что драконов на свете нет, рано или поздно это знание сделает драконом тебя.
Кажется, что-то подобное со мной и случилось.
Я улыбнулся.
Я смотрел на мир новыми глазами, и мир в моих глазах был прекрасен.
В Ферганской долине зрели персики, внутри которых сидели косточки размером с кулак, в Красноярске на балконе губернаторского дворца ястреб рвал голубя, красиво окропляя кровью мрамор, а в Индонезии с дерева кеппел осыпались плоды – такие душистые, что пот человека, который их попробовал, приобретал запах фиалок.
В больнице меня продержали два месяца. С учетом поломок в моем организме – не слишком долго.
В первую неделю Оля каждый день навещала мое скорбное пристанище. Мы нежничали и мило капризничали – часто женщины невольно переносят на больных свои материнские инстинкты, начинают с ними сюсюкать и в слове “хорошо” делать сразу три фонетические ошибки, заменяя “ха” на
“ка”, “эр” на “эл”, а шипящую на свистящую, что здорово утомляет, но лютка знала меру и ее дочки-матери меня ничуть не тяготили. Потом дела с диссертацией потребовали присутствия Оли в СПб, и она стала появляться лишь по выходным, что тоже было к лучшему – в конце концов мармеладом нашей безмятежности можно было и объесться.