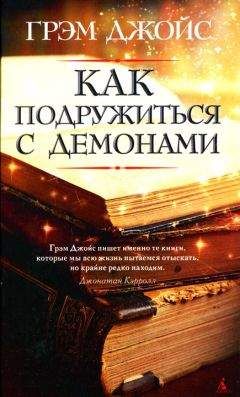Мы тоже принесли ей цветы. Каллы. Но вазы под них не нашлось, а поскольку я знал, что Анна хочет кое-что рассказать Антонии, я сказал им, что пойду поищу. Бродил по палатам в поисках подходящего сосуда. Случайно наткнулся не на что-нибудь, а на винный графин и наполнил его водой.
Когда я вернулся за ширму, женщины разговаривали вполголоса. Я поставил графин на прикроватную тумбочку. Каллы оказались для него слишком велики. С другой стороны кровати был еще один стул, я сел на него, и Антония, не прерывая беседы с Анной, взяла меня за руку.
— Мне так жаль, что я не сразу узнала тебя, когда ты ко мне зашла, — сказала она Анне. — Впрочем, не жаль. Ведь это говорит о том, какой длинный путь у тебя позади.
— Ничего, разве всех упомнишь? Их, должно быть, сотни.
Антония рассмеялась — тихо-тихо, но и этого ей хватило, чтобы закашляться.
— Больше тысячи. Я считала. Но не всем удалось выбраться, как тебе.
— Ты меня спасла.
— Нет, ты спаслась сама. Уильям рассказывал тебе о своих бесах?
— О да.
— И ты их тоже видишь?
— Нет. Во всяком случае, не так, как он.
— Нет? Что ж, а я вижу. Но я ему не признавалась. Не хотела его поощрять. Уильям, ты видишь их здесь, сейчас?
— Нет, — сказал я. — Ты им, похоже, не нравишься, Антония. Я тебе и раньше это говорил.
— Анна, — сказала Антония, — сейчас я скажу тебе, что он видит на самом деле.
— И что же он видит? — спросила Анна.
— Страдания, — сказала Антония. — Он видит страдания других людей. И свои собственные. Видит их в образе бесов. Настоящих.
— Но твоих я не вижу, Антония, — сказал я.
— Верно. Потому что я их обманула. Помнишь, ты как-то спрашивал меня, чего они ждут? Вечно чего-то ждут… Знаешь чего? Разрешения уйти. — Она покачала головой. — Я люблю тебя, Уильям, потому что для тебя жизнь никогда не перестанет быть захватывающей. Потому что ты добр ко всем ее созданиям. Ты даешь им дом. Но иногда он им не нужен. Я умираю, Уильям… Я должна была сказать тебе об этом.
— Антония… — сказал я. — Антония…
— Тсс! Послушай, — сказала она. — Анна возьмет на себя управление «Гоупойнтом».
— Что? — Я посмотрел на Анну. Она кивнула. — Когда вы это решили?
— Только что, — сказала Анна. — Пока ты ходил за вазой.
Когда мы вышли из больницы, мне жутко захотелось выпить. Я не мог видеть вопящих, чадящих сигарами демонов Челси, так что мы взяли курс на набережную, в более цивилизованные гроты «Винного бара Гордона», где не играла музыка и подавали только вино.
Искать столик в полуподвале «Гордона» приходится чуть ли не на ощупь. Огонь свечей не рассеивал мрака по углам, и казалось, что здесь каждый что-нибудь скрывает: если не заговор, то тайное свидание. В семнадцатом веке в этом доме жил Сэмюэл Пипс, а в кабинете над баром Редьярд Киплинг написал «Свет погас». Один из моих любимейших лондонских пабов, вот только сегодня какой-то не очень духоподъемный.
— Ей осталось две-три недели, — сказал я. — А может, и два-три дня. А ты полна сюрпризов, ты в курсе?
— Да, я такая, — сказала Анна.
— Поиск пожертвований — это непрерывный кошмар.
— Ты нам поможешь. — Она все знала о букинистической афере: я рассказал ей.
— Я и себя-то сейчас не могу прокормить. Ты выдохнешься. Это будет выжимать из тебя все силы.
— А ты — утешать меня.
— Проще отдать помещение одному из агентств по соседству. «Сент-Мартин-ин-зе-Филдз». Они хорошо справляются.
— Я не всегда хочу того, что проще.
— Ты постоянно будешь на мели.
— Ага, возможно.
Я обвел глазами подвальчик паба, прошелся взглядом по мрачным углам и обнявшимся парочкам, словно опасался шпиона или врага, проникшего сюда, чтобы нас подслушать. Но каждый был озабочен своим собственным заговором. Идея сохранить «Гоупойнт» казалась мне безумием — даже если я поддержу Анну, даже если смогу. И все это означало, что теперь мне позарез нужно выцепить Штына и найти нового покупателя взамен Эллиса. Беда в том, что я даже не представлял, с чего начать.
Я не стал спрашивать, зачем ей это нужно. В этом мире полно людей, которые только и мечтают избавиться от бесов, но всегда будут и те, кто ищет их на свою голову.
Антония умерла за три дня до Рождества.
Когда кто-нибудь умирает — кто-то, кого ты любишь, — мир меняется. Из него исчезает некий особенный свет. И ничто не способно сделать этот мир прежним. Я уже говорил, что люди часто врут из жалости, но вся эта утешительная ложь — плохой помощник. Бесовщина, если уж на то пошло. Она глумится над нашей человеческой природой. Отвлекает наше внимание от того, что по-настоящему ценно, — исчезающего, неповторимого мгновения. Эта истина открыта лишь людям вроде Антонии: чем короче жизнь, тем она ценнее. Чем больше мы уверены в том, что она — запечатанный временем сосуд, тем радостнее должны праздновать ее безмерный простор; чем больше в ней абсурда и мрака, тем усерднее мы должны напрягать зрение, чтобы видеть в ней чудо.
Я не заплакал, узнав о ее смерти. В этом не было нужды. Ее жизнь была безгрешна. Лучше уж поплакал бы о себе — о своей глупости, суетности и зря потраченном времени.
Но хотя я не проронил и слезы, я чувствовал себя брошенным. Я отчаянно хотел быть среди людей и потому предложил Анне устроить грандиозный дурацкий обед в честь Рождества: пригласить всех и каждого и половину чертей в придачу. Она была только за.
Я знал, что Фэй хочет встретить Рождество вместе с Сарой, а Люсьен — обработать живого гуся паяльной лампой, или как там нынче модно. Тем не менее сам я не имел ничего против того, чтобы детишки остались у нас с Анной. Мы, конечно, не бог весть какие повара, но вставить дичи перышко в задницу и назвать блюдо «Норвежский дятел а-ля Люсьен» — это мы можем.
Сара была категорически против шеф-повара Люсьена и его кейтеринга. Был у них еще и третий вариант: рождественский ужин с мамой и папой Мо. На это предложение Мо ничего не ответил, но, судя по его виду, предпочел бы скальпировать себя бензопилой.
В общем, похоже было, что Сара и Мо будут с нами, да и Джез не получал более заманчивого приглашения.
— Как сикх, буду очень рад присоединиться к вашим торжественным обрядам в честь ближневосточных пастухов, поклоняющихся смерти. Кстати, есть новости от Эллиса. Он говорит, что все еще заинтересован в книге, но не желает иметь дело с «этим психом». Кажется, он имеет в виду тебя.
— Ох, — сказал я. — Да, я грубовато с ним обошелся.
Кроме того, Джез признался, что Штын когда-то дал ему ключ от своей студии. Вообще-то, я был по уши в работе: вся эта история с административным надзором за «Гоупойнтом», не говоря уже о том, что мне пришлось председательствовать на первом собрании комитета по делам бездомной молодежи (очередная бессмысленная затея правительства). И все же однажды вечером я заглянул к Штыну.
Его самого там не было, но под верстаком я обнаружил крысу размером с собачонку, игриво грызущую зеленоватый кусок хлеба. Чтобы обратить ее в бегство, пришлось швырнуть в нее тостер. Я не нашел никаких следов почти готовой, как я надеялся, работы. Ничего. Перед уходом я вымыл несколько тарелок и оставил записку, в которой умолял Штына связаться со мной.
Канун Рождества выпал на субботу, и Анна с Сарой внезапно спохватились, что у нас нет елки. Решив исправить положение и где-нибудь похитить деревце, они ушли на дело. Пока их не было, заявился неожиданный гость.
— Робби! Заходи, заходи! Какой приятный сюрприз!
На нем был длинный темный плащ, как у тех школьников, что подражают наемным убийцам. Он заглянул мне за спину:
— А Сара дома?
— Зыкий плащ! Она ушла за елкой.
— А Мо дома?
— Ушел вместе с ней. Ты остаешься?
— А эта твоя новая девушка? Она дома?
— Анна? И она с ними. Похоже, они сбились в шайку-лейку.
— Пап, мы уже не говорим «шайка-лейка». И «зыкий» тоже.
— Ну да, разумеется. Заходи и позволь-ка мне снять с тебя этот чудесный плащ.
Мы прошли в гостиную и сели. Я предложил ему пива — да-да, знаю, перестарался. Он предпочел стакан шипучки. Я нашел какую-то древнюю бутылку, но Робби пожаловался, что из нее вышел весь газ. Я спросил его, как там мама, как там Люсьен и как там Клэр; он отвечал односложно. Он сидел и непрерывно стукал одним башмаком о другой. Хоть я и работаю на молодежную организацию, в беседах с подростками я не силен, даже если это мои собственные дети. Честно говоря, вообще не шарю в этом деле: печально, но факт. Им исполняется тринадцать, и они на семь лет уходят в Долину Бесов. Я в курсе, что некоторым не удается вернуться даже к тридцати трем и трем в периоде, но большинство годам к двадцати выбирается из этого лихолесья, искрясь самородками здравомыслия.
Затем Робби огорошил меня, буркнув:
— Можно я останусь на Рождество?