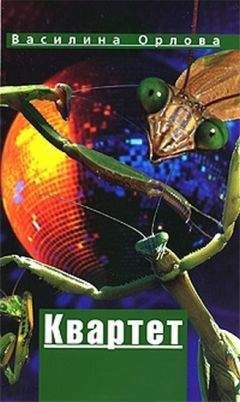— Москва — это триллер. Встретил человека в один из дней — вот он, рядом, вблизи. Его можно потрогать. Проходит день, и он как бы отплывает. А через несколько дней ты уже сомневаешься: может, то была просто галлюцинация?
Алексей перебирает пальцами, показывает волны, словно гладит кошку или ощупывает материю, а может, пробует клавиши пианино. То постукивает себя по гладкому, высокому лбу, то охватывает реденькую, кучерявую, как мочало, бородку. Ушанка лежит рядом, на подоконнике у стола. На том же подоконнике стоит и искусственная елочка, убранная мишурой. Нижняя пластиковая ветка поблескивает: там прячется синий шар.
По Арбату текут люди, а у самого входа скалывают толстую наледь, и железо гулко и звонко стучит о мощеную мостовую.
— Я среди них был неяркий. Наоборот, в учениках ходил. И смотрел на всех снизу вверх, чуть не в рот заглядывал, знаешь. Ну сколько нам тогда было. Мне, может, двадцать. Остальные старше. Мы пускались в разнообразные трипы. Многие употребляли наркотики. Но я в это не погружался.
Я невольно поморщилась на сей штамп.
— А чем они сейчас занимаются?
— В том-то и дело.
Подливаю из чайничка с приплюснутыми боками кипятку — ему и себе.
— Миша мог так. Вот идем мы ему навстречу, человек двадцать, в унынии. И он заявляет: «Айда». На Чистые пруды или еще куда. И все, ободрясь, весело, понимали, да-да, так и нужно, так и хорошо, это и есть лучшее, что можно придумать, шли на Чистые, и там тоже находилось дело. Харизматический человек. И мы недавно встретились с ним. Он протягивает тетрадку, обычную школьную тетрадку, помнишь, были такие, за двенадцать копеек, в линейку, где он ее только достал. И на обложке всякие рисуночки, ну вот как дети в школе рисуют, «Металлика», разные варианты, как назвать эту тетрадь. И все перечеркнуто. А стихи неплохие, кстати. Но меня так скрутило вдруг, понимаешь, увидел, как это все по-детски, что ли, как беспомощно-незрело и оформлено, и подано — так, словно не сейчас происходит, а десять лет назад. На том же уровне. А ведь ему уже тридцать пять.
Подперев щеку ладонью, почти не мигая, смотрю на Алексея.
— Никого не остается. Их так немного. Куда они уходят? Ведь это ужас. Спекаются. Но Миша — ладно, он хотя бы спился.
— То есть — хотя бы?
— Святослав. Знаешь, что с ним?
— Понятия не имею.
— Но ты его помнишь?
Святослав был еще один наш вечный приятель. Ему очень шло его имя. Он был тонок, словно полупрозрачен, но в нем, в широкой кости и высоком росте, угадывался будущий Илья Муромец. Всегда молчалив, с опущенными долу ресницами, он был застенчив, как девушка. Собственно, нет, я почти его не знала. Да и кого я знала из тех, с кем здоровалась каждый день в коридоре или на лестнице?
— Он поступил в аспирантуру, — вспомнила я.
— Да, поступил. Просыпался часов в двенадцать и шел покупать газету. Прочитывал ее, затем смотрел телевизор или видеофильм. И засыпал. Так прошло три года. Он растолстел, обрюзг. Что с ним было… Цвет лица… Ладно.
— И что?
— И в конце концов уехал в свой Энгельс. Больше мы его не увидим, я думаю.
Официантка подошла пружинящей походочкой, собрала со стола тарелки. «Цвет лица»! И он туда же — Арамис.
— Надо преодолеть себя.
Преодолеть себя. Как это? Если то, куда ты себя преодолеешь, — тоже есть ты? Философ сказал: стань самим собой, но не уточнил, каким собой именно.
— Я бы еще понял, если бы. Грех так сказать, но если бы он попал в аварию, или у него кто умер, или он запил, или влюбился. Мало ли что бывает, сворачивает людей. Но в том-то и дело — ничего, понимаешь, ничего подобного, и даже не скажешь ведь человеку в такой ситуации: слушай, хорош.
Алексей рассказал еще про нескольких друзей. Марат продавал хлеб, Владимир преподает, краса и надежда курса Леонид ушел в монастырь. Я поцокала языком.
Да, мы время от времени сталкивались. Камешки в калейдоскопе. Случайно. Трудно поверить, что в таком большом и многоуровневом городе, как Москва, происходят негаданные встречи. Вот у Кремля. Алексей с аккуратной русой бородкой, новая черная рубашка застегнута на все пуговицы, поверх — черная вязаная безрукавка, черное пальто. Бледной рукой изящно покручивал черную ручку черного щегольского зонтика-трости. Не хватало только троих друзей-мушкетеров.
— Вот когда благодать наступает, — говорит Надежда, — как попостишься хорошенечко, да без маслица даже растительного, а в субботу тяпнешь винца — вот тут-то благодать и пристигнет тебя.
— А как отшельники — они же не пили вина по субботам?
— У них другое. У них и еще лучше. Но мы того сподобиться не способны.
Бледная, даже в синеву. При взгляде на нее как-то сами собой возникают слова: «умерщвление плоти».
— Возьмите хоть виноградинку.
— Нет, хочу попробовать отказаться. Я, конечно, не зарекаюсь, но попробую.
Виноград лежит на столе и дразнит тугими ягодными боками. Сочными, розово-голубыми, холодно бархатного цвета, матового оттенка.
— А вот когда попостишься, ничего дурного уже делать не хочется — ни ссориться, ни досадовать, и так легко, легко-о.
Мою комнату никто не посещал, и я сотворила из нее настоящий склеп: в шкафу хранится коллекция пуговиц — разноцветных, круглых и овальных, квадратных и треугольных, деревянных и пластмассовых, перламутровых и металлических, в виде мячей и корабликов, с оттисками «Школа» и «Jeans wear» — последнее казалось особенно ценным. Как символ существования другой цивилизации. А сейчас выясняется, что подлинное сокровище коллекции — все-таки безликая металлическая школьная пуговица: сейчас таких и не сыщешь.
Даже пуговицы не вечны.
В притворе торгуют свечами, лежат стопки бумажек — о здравии, об упокоении — и стоит мед в пластиковых коробках.
К продавщице всего этого благолепия, большой старухе с черными бровями, седоволосой, в белом платке, подходит женщина, опережая людей, расслаивая очередь:
— Матушка! Матушка!
— Ну что, что.
— А медок-то, он весь со скита? А то на одной баночке, мы взяли, есть этикетка, а на другой нет…
— Ой, Господи, — крестится та, — ну конечно со скита, мать моя. А то откуда же?
Спрашивающей стыдно своего недоверия, она стремится побыстрее ретироваться.
— Отклеилась с одной баночки этикеточка. Ну что теперь? — продолжает громогласно свечница. — Так, а вам чего?
Есть такие девушки — они как будто мандарины, с которых в солнечном луче счищаешь кожицу, и блестят они, и сияют: плоть их мандариновая просвечивает на солнце, и все прожилки видны, тугие, наполненные соком. Мягкие славные аппетитные мандаринчики.
А есть яблоки. Эти крепки на вид, но если правильно куснуть, тоже брызнет сок, и скулы от них ломит, они простые, здоровые и очень полезные.
А есть еще гранаты. Они причудливого строения и по-своему не очень-то рациональны — вычурны, питаться ими трудно: в каждом маленьком зернышке обязательно косточка, но зато они выглядят бордово, винно, дорого и — если дозрели — необычайно вкусны.
Я раздумывала, какому фрукту уподоблю себя? Не тому, не этому. Кажется, шишке.
Я наблюдала, как в вазе, очертания которой давно, хорошо и надежно знакомы, покоятся, понемногу сгибаясь, цветы. Подарил Миша Хладилин. Спокойный, гладкий, стройный и даже талантливый московский мальчик, немного актер, немного пиарщик, получивший элитное образование, хорошо зарабатывающий, с собственной, хоть и однокомнатной, квартирой. Чистый. Красивый. Я прямо почти кончиками пальцев ощущаю, какая у него должна быть чистая кожа, судя по румянцу на лице, — полупрозрачная, гладкая, шелковистая, как у девушки. Почему же я даже не целовалась с ним, это ведь так упоительно — целоваться. Вот послушай. Я хотела бы целовать тебя. Чтобы ты уже не помнил себя. Чтобы ты рычал под моими губами. А я бы закрывала тебе рот поцелуями. Я бы извивалась змеей в твоих объятиях. Я бы выключила тебя, как электрический прибор, из сети питания. Я бы перезагрузила тебя, как компьютер. Ты бы открыл глаза обновленным. Совсем не таким, как был.
Но кому я это говорю?
Алексей принес пачку выцветших бумаг — тетрадные листы, сложенные вдвое, конверты.
— Он был высокий, плотный. Но в очках. То есть такой русский здоровяк-интеллигент. Хотел на философский факультет поступать, кстати. Мы долго с ним обсуждали эти перспективы, а как-то выяснилось в результате, что он и среднего образования не имеет. Ушел после восьмого класса в училище, да недоучился, думал, сейчас сдаст экстерном в вечерней школе все экзамены и будет поступать, но ушами прохлопал, и его забрали в армию. Выучили на сапера и отправили в Чечню. Он мне оттуда письма слал. Вот, дневник даже.
— А потом?
— Потом разное, но в целом делся куда-то.