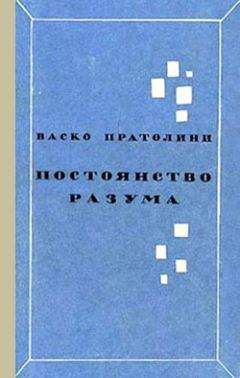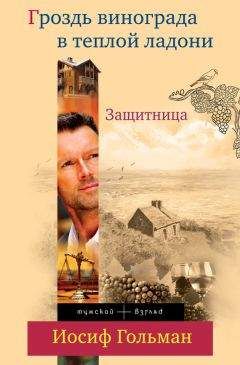– Что вы имеете в виду? – мрачно спросил я.
– Так, всякую чепуху, разумеется. Даже если сестры ссорятся, им не пристало долго дуться друг на друга! А вот она всегда считала иначе, с самого детства.
Обида на Лори – а она старалась замаскировать ее своим дружеским тоном – чувствовалась в каждом слове. У них была глубокая тайна, которая, по мнению Джудитты, связывала их и которая над Лори тяготела проклятием. Все это должно было вскоре стать для меня еще более очевидным.
– А какой она была в детстве?
– Не ребенок, а золото. Умница, послушная, выдумщица – в хорошем смысле. Ей больше нравилось мастерить бумажных змеев, чем играть в куклы. – Вот все, что она сумела мне ответить.
Так, вечер за вечером, вплоть до очередного вторника, когда прошел час, полтора часа, а Джудитта все не появлялась. В двенадцать я звонил ей, она была «занята с Лори», и к телефону подошла мачеха, сказавшая мне, что Лори стало хуже и что ее собираются везти в больницу.
Я взял чашку кофе и рюмку коньяку, газета как-то не читалась, и, чтобы немного забыться, я попробовал смотреть телевизор. Шла передача для рабочих, но и она не вдохновила меня, настолько была идиотской: в то время, когда все знали о волнениях в связи с заключением новых типовых договоров, по телевизору рассуждали о тред-юнионах, о гигиене труда, о монтажных конвейерах; последнее – еще ничего. Хоть показали один из машиностроительных заводов Милана, по сравнению с которым «Гали» застрял где-то на уровне каменного века. Потом шла реклама, потом телевизионные новости. В дверях вместо Джудитты появился ее отец в сопровождении Милло.
Я встретил его – маленького, тощего, с лысиной – у газетного киоска на площади Далмации за несколько месяцев до приезда Лори. Это было прошлым летом. Он угостил меня пивом и сказал, что переехал в Рифреди. «На виа Андреотти, в тот дом, где мясная лавка. А типография все там же, в Борго Аллегри. Ну, а у тебя что слышно? Кончил училище и уже работаешь на „Гали“? „Да“, „нет“ – обычные ответы на вопросы пожилого человека, к которому хорошо относишься. „Давно не видал Миллоски? Я, наверно, сто лет. Но сейчас, когда я живу в Рифреди, он от меня не уйдет. Что, он по-прежнему опекает тебя?“ Это заставило меня поскорее ретироваться. Теперь я снова видел его – небритого, с узкими щелками вместо глаз. Мы поздоровались: само собой разумелось, что он пришел вместо Джудитты.
Появление Миллоски ничуть меня не удивило. Несколько недель назад Милло, зайдя в этот же бар, тем самым вошел в историю наших с Лори отношений, и мы сидели втроем за одним столиком. В последние вечера мы с ним встречались в Народном доме, я рассказал ему о болезни Лори, он огорчился за нее, а потом открыл очередное судебное заседание. «Ну, каково у нас правительство? Послушаем твое мнение на этот счет». Мы немного Поспорили и, как всегда, на прощание пропустили по стаканчику.
– Садись, Каммеи, – сказал он теперь. И подвинул ему стул.
– Нет, лучше не здесь.
Мы пересели за другой столик, подальше от телевизора и громких разговоров.
– Кому слово, тебе или мне? – спросил он.
Сандро Каммеи, которого люди в Борго Аллегри с продиктованной уважением иронией называли Большим Сандро, глубоко вздохнул и посмотрел на меня, прищурившись, с нежностью и укоризной.
– Ты знаешь, что ее положили в Кареджи?
– Я ждал Джудитту, чтобы узнать, как дела. Что сказали врачи в больнице?
– Они сказали что-то ужасное.
– Вот что Каммеи, ты это оставь, – вмешался Милло. – Если ты слышал разговоры о туберкулезе, то туберкулез нынче не так уж опасен.
У меня голова кругом пошла. Возможно ли, чтобы Милло вел себя столь несерьезно? Мне казалось, что утешать Сандро Каммеи – последнее дело.
– Скоротечный, – пробормотал отец Лори… И провел по глазам тыльной стороной руки.
– Ничего подобного, – возразил Милло. – Не скоротечный, а милиарный. Милиарный ТБЦ, твой зять правильно запомнил. Это что-то вроде септицемии, согласен, но в наше время вылечиваются даже от столбняка, а от легочных болезней и подавно. – Наконец он обратился и ко мне. – А ты будь мужчиной. Договорились? Похоже, ее надо было положить в больницу гораздо раньше, это верно.
Наступило долгое-долгое молчание, которому, казалось, конца не будет: глаза встречались с глазами, дымились сигареты и тосканская сигара, за спиной у нас – телевизор: голоса Де Голля и Тамброни, сообщения о покушениях в Алжире, о новых преступлениях Сталина, разоблаченных Хрущевым, о пенсиях… По этим волнам плыли мои мысли в то время, как взгляд Милло говорил мне: «Такие-то дела, сынок. Но ты держись. Не падай духом!»
Каммеи положил конец этой пытке самым неожиданным образом, и сразу стало ясно, для чего он пришел и зачем ему понадобился провожатый: конечно же, он рассчитывал на то, что Милло мне – как отец. Он шмыгнул носом и сказал:
– Она тебя очень любит, моя дочь.
– И я ее, – признался я. – Но кому от этого легче?
– Ты должен доказать– свою любовь.
Снова вмешался Милло:
– Короче говоря, она плоха, не так, конечно, как думает Каммеи… У нее как будто осложнения. Одним словом, не то чтобы менингит, но… И она все время только и делает, что зовет тебя. Я был там, сам все видел и слышал. В минуты просветления, если ее спрашивают, хочет ди она, чтобы ты пришел, она кричит, что нет, а потом ищет тебя и мечется, мечется как безумная.
– Так оно и есть, так, так, – бормотал Каммеи. Он не двигался и был похож на статую, руки на коленях, на щеках слезы, от которых промокла сигарета, прилипшая к губе. Он понял, что плачет, взял себя в руки и, вытерев лицо, пробормотал: – Я должен глотнуть воздуха, прошу прощения. – Он направился было к двери, – но не вышел.
Теперь, наедине со мной, Милло опять превратился в малоразговорчивого человека, в Волка, которого не страшат ни смерть, ни жизнь, сильного своей способностью смело смотреть в глаза действительности. Он объяснил, что они пришли уговорить меня навестить Лори. О какой такой дурацкой клятве болтала Джудитта? Если Лори звала меня в бреду – значит, ей хотелось меня видеть.
– Подумаешь, влюбленные не поладили! Так что же, из-за этого ты хочешь удвоить ее страдания?
Я слушал его и курил, по моей спине пробегали судороги, отдававшие в затылок, и меня удивляла эта чисто физическая реакция. А в голове – неотступная мысль: если Лори действительно плоха, измучена, в бреду, прикована к больничной койке, значит, клятву тем более нельзя нарушать. Со стороны я выглядел, наверно, настолько хладнокровным, что меня можно было возненавидеть.
– Мы вовсе не ссорились, – ответил я. – Мы любим друг друга еще больше, чем прежде. Все дело в данном друг другу слове. Наши отношения основаны на честности. Тебе, да и другим, Джудитте, например, не понять этого, напрасно стараешься.
Милло заглянул мне в глаза и ткнул меня пальцем в грудь.
– Ты-то понимаешь или нет, что она умирает?
У меня, видно, задрожал голос:
– Этого не может быть, Милло, неправда.
– Перестань, – приказал он, – я говорю то, что есть. Не думай, будто я явился утешать тебя. Ты видишь меня здесь потому, что Каммеи хотел, Чтобы мы пришли вместе, и еще потому, что мне понравилась эта девочка, когда я увидел ее с тобой. Но прежде всего я здесь ради тебя, ради того, чтобы тебе потом не раскаиваться в том, что ты вел себя как ребенок. Совесть будет мучить не мальчишку, а взрослого мужчину, учти.
Я сидел, окаменев; мозг был словно стеклянный шар, он дребезжал от шума и голосов, и мне казалось, что в нем уже отражалась умирающая Лори, и я весь леденел от этого видения. И одновременно – советы Милло, его присутствие, его просьба, как эхо далеких времен, как возвращение зависимости, а я-то считал, что давно от нее освободился. Во мне были страх, и протест, и сменившее их спокойствие – уверенность в том, что я поступлю честно, так, как хочет Лори, как я сам того желаю, оберегая нашу любовь. Я взял со стола сигареты и спички.
– Я позвоню завтра утром, узнаю, как дела. Попроси Джудитту, чтобы она была дома.
Встав, я увернулся от руки Милло, которую он протянул, чтобы удержать меня, быстро прошел мимо Каммеи, не глядя на него, вышел на улицу и вскочил на мотоцикл.
Я помчался, как та собака, с той лишь разницей, что не истекал кровью и не скулил, а старался найти в предельной скорости мотоцикла, в жутко рискованных обгонах, в поворотах на полном газу соответствие своему состоянию, взвинченному и в то же время уравновешенному. Не только тело, но и разум держал трудный экзамен, плотный клубок чувств, помимо моей воли, увлекал меня за собой по нашим местам: от Сан-Доменико к мостику через Терцолле, к ярким огням «Красной лилии», к неоновой вывеске «Petit bois», откуда, приостановившись на секунду, я тут же мчался дальше вниз по Винчильята, объезжая вдоль опушки леса машины с потушенными фарами, потом по набережной, минуя «берлогу», через город, не очень людный в эту пору, когда люди или сидят в кино, или дремлют у телевизоров, или уже спят, или занимаются грязными сделками, или разминают кости после нелегкого рабочего дня.