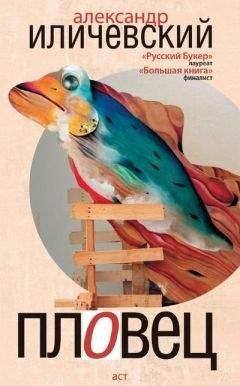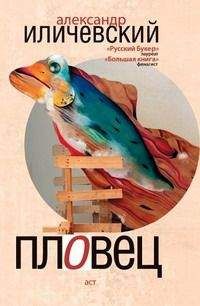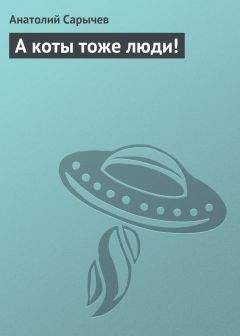Море то появляется, то исчезает за барханами. Наконец офицер догадывается, что это уже давно не море, а белесая от марева рябь песков.
Но вот по отмашке машинист дает гудок и наворачивает тормоз. Через полчаса две чертовы дюжины бакинских комиссаров разметываются расстрелом по пустыне — как городки, зашибленные невидимой битой.
Паровоз ревет, тоскует и пятится от желтой прорвы — к морю.
Постепенно сонный стук колес стихает, страх слабеет, и суслик наконец осмеливается вылезти наружу.
Неглубоко закопанный труп до самого захода солнца еще будет в агонии. Каждый раз забывая, суслик часто будет вылезать из норки и снова прятаться, завидев, что песок под его пригорком дрожит, плывет и ходит.
Наконец показавшаяся из песка рука застынет, и длинная-длинная тень поползет по залитому закатом бархану — указывая на тонкий накаленный месяц в бездне стремительно сгущающейся синевы.
Вскоре британские войска, обгоняемые мусаватскими фесками, стремясь песчаной струйкой по лобовому стеклу, спешно ретируются в глубь Ирана под натиском 11-й Красной армии. Стреловидная диаграмма ее наступления наползает по карте, целясь в промежность генерала Денстервиля. Знаменитый генерал нынче поспешает на попятный — под прикрытие британского флота, стоящего на рейде в Персидском заливе.
Красноармейские штыки один за другим вспарывают саквояжи с 10 миллионами фунтами стерлингов, которые Денстервиль получил от лордов на операцию по захвату каспийского флота. Взметнувшись высоко в стратосферу, саки опорожняются листовочным конфетти над колонной автомашин, следующей улицей Горького к Спасским воротам. Сонмы листков кружатся и порхают над несущимися в улыбке головами Чкалова, Байдукова, челюскинцев, Гагарина и других героев.
К моему автомобилю подходит работник бензоколонки и принимается резиновым скребком протирать фары и стекла. Я послушно приоткрываю окно, протягиваю ему червонец.
Над перелеском поднимается туча галок. Исступленно галдя, они мельтешат россыпью и, вдруг разредившись на развороте, пропадают пропадом в густом пасмурном небе. По лобовому стеклу долго тянется сизая ползучая клякса.
Я брызгаю стеклоочистителем, запах паленой водки бьет в нос, пускаются вприсядку «дворники», — и в залитый солнцем кабинет моего прадеда хмуро входит Есенин.
Прадед — военком 11-й армии, шаровой молнией плывет по кабинету его сияющая лысина, он что-то приветливо говорит сердитому поэту, после чая ведет его на набережную, они пьют айран с лотка у причала общества «Кавказ и Меркурий», смотрят на колышущиеся на волнах флотилии арбузных корок, на чайку, распекающую мусорный ящик, и долго-долго — на безупречную линию горизонта, взятую к небу серыми крыльями бухты.
Через день Есенин, усеивая лапчатыми каплями пота почтовые бланки, телеграфирует в Москву свою ужасную поэму.
Два расписных, как печатный пряник, танкоподобных «форда» пролетают мимо заправки. Вой блескучей сирены впивается дискантом и вынимается тугим икающим баритоном. Огни в сигнальных колбах ворочаются и ходят, будто в них кому-то заламывают руки.
Гаишники не знают, что за рубежами Москвы я успокаиваюсь, как осколок гранаты — за пределом зоны поражения. Что на подмосковных просторах я в силах передвигаться медленно и плавно: как облако по штилю, как по небу луна, как сомнамбула по карнизу, как инвалид в коляске с парусным приводом, как транспорт гужевой, как партизан дремучий по-пластунски.
Каспий с утра штормит рваными полосами крупной зыби, и В. Хлебников блюет за борт на мельтешащие, как пятки, плицы парохода, который везет его в Энзели. На том же пароходе, но на верхней палубе — едет Яков Блюмкин. Он отлично переносит качку и развлекается наблюдением шныряющих в волнах тюленей. Между спазмами Хлебников умудряется записать, что Каспий свят, возвышен потому, что он есть средостение всей России, собранной по капле Волгой. В конце будущего года поэт, затерявшись в Персии, станет от счастья цветком. Блюмкин спустя три месяца будет отозван Троцким с должности политкомиссара Гилянской Советской Республики и отправится в свое первое путешествие на Тибет, на поиски Шамбалы. Так начнется его мучительное и триумфальное фиаско.
Потому в ноябре 41-го танки вермахта останавливаются перед окраинами Москвы, что у немцев заканчивается бензин. Большая часть его запасов была затрачена на завоевание Украины и Белоруссии. Козырной своей удачей брянские, вятские, тульские и калужские партизаны считают пущенные под откос составы с топливом. И вот — не дотянули. Полный останов разверзает пред Москвою пропасть. Пока Манштейн ждет бензин, Жуков успевает подготовить контрнаступление. Наши танки прут немца на соляре. Соляра в подземном храме в Сураханах сочится прямо из стен. Гитлер снимает Манштейна с должности главнокомандующего, сам садится на стального козла и поворачивает рога на Баку.
Гаишники возвращаются. Один «форд», отделившись, переметывается через встречную и хищно встает напротив.
Все по той же причине фрицы и отступать-то толком не умеют: стоп машина — ни в хвост, ни в гриву. Вот почему оккупация северной части Калужской области длится чуть ли не год, до августа 1942 года, в то время как юг был освобожден еще в декабре 41-го.
Согласно одной из частей плана «Барбаросса» совершенно секретный корпус «Г», составленный из арабской, афганской, иранской и индийской дивизий после захвата Сталинграда должен будет установить контроль над Каспийским морем и занять Баку.
Дожевывая, догадываюсь, что спокоен я потому, что уже нахожусь на верном пути. И что с него меня не свернуть, не сманить ничем, кроме как пулей. Впереди в 16 часах езды передо мной открывается Великий Юг: Таврида, паром Ялта — Синоп, оттуда, маханув малоазийским побережьем между тройских курганов, — я загибаю в Каппадокию. Качу по кремнистой равнине, залитой закатом, петляю между армией исполинов — слоеных остистых столпов, вырезанных в тысячелетиях пильчатыми песчаными бурями. Соловьем-разбойником устраиваюсь на ночлег в одной из этих эоловых башен. Ночной пустынный бриз подвывает в мое дупло, как циклоп в пифос с таящимся Одиссеем. Далее утром взлетает гористая дорога на Леванон, трехдневная проволочка с визой на границе Газянтипа, наконец мелькает транзитной сотней километров Сирия, чиркает Бейрут, и вот — пустынный КПП перед Кирьят Шмона — и все, приехали. Коленопреклоненный. Губы шепчут землю. И вот уже поворот на Цефат, вот кипенные его сады на взмывающих склонах — и мальчонка верхом в белой рубахе цветущей веткой погоняет мула ввысь по переулку…
Один мент выходит из машины и проникает в павильон заправки. Через стекло он косится на меня. Выражение у него такое, будто взглядом он окунается в небытие, пытаясь припомнить чудной, поранивший душу сон.
Дачку в Велегоже я купил по чистой случайности. Лет пять назад загремел в больницу, где месяц промаялся на койке по соседству с одним стариканом. В реанимации он отлеживался после третьего инфаркта. У нас нашлась общая тема. Мы оба оказались физиками: я — по образованию, он — по профессии. Когда-то я проходил преддипломную практику в институте, в котором он проработал сорок лет. В самом начале шестидесятых в лесу под Серпуховом построили Институт физики высоких энергий и рядом с ним — закрытый городок ученых. По территории Института просекой в сосновом бору проходила многокилометровая петля подземного туннеля, в котором мощные магниты разгоняли пучок протонов до чудовищных энергий.
Старик, рассказывая о своей научной молодости, вздыхал регулярной присказкой: мол, все ж таки ему довелось пожить при коммунизме — хотя бы и в отдельно взятом фаланстере. Превосходное снабжение, великолепная культурная жизнь — КВН, литкафе, Жванецкий, в широком ходу самиздат, двухуровневые квартиры, регулярные поездки в Швейцарию в Европейский центр ядерных исследований и т. д.
Однако мне почти не о чем было вспомнить ему в пандан, в том же институтском контексте. Разве только о чудесных ночных купаниях голышом в Оке, когда парная вода ласкает все тело и тонкая дымка загадочно висит над звездным речным простором; когда щелкают надрывно соловьи и дева, блеснув зрачками, медленно раскрываясь млечной наготой, опускается навзничь в росистую траву, мерцающую лунной жуткой искрой…
Но об этом я помалкивал.
А старику было чего порассказать. Хоть отбавляй. Чего-чего я только от него не слышал! Например, он поведал мне об одном бедолаге — технике, припозднившемся с монтажом в тоннеле ускорителя в тот момент, когда физики начали один из экспериментов. Пучок бешеных, как дикие пчелы, протонов прожег навылет ему голову, пройдя от левой скулы к правому виску. В результате герой остался жив, но сошел с ума на почве микромира. Ему все чудилось, что атомы — это совершенно живые существа, но только впавшие в глубокий обморок… Он писал в газеты письма, что в цепочке «человек — животное — растение — камень — атом» жизнь, лишь убывая понемногу, присутствует абсолютно во всех звеньях. Что в результате несчастного случая им установлен контакт с протоном № 342567987502781193314271182818283147658273.