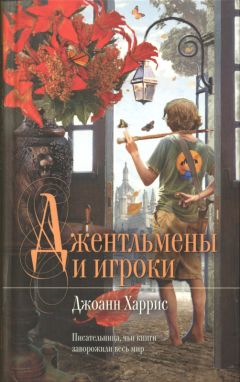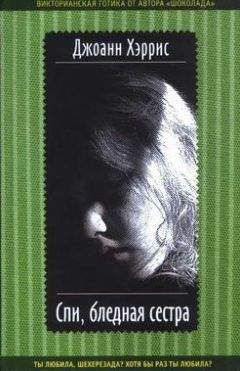Вскарабкаться обратно к окну библиотеки? Но это слишком рискованно — меня увидят с земли. Надо пойти другим путем — пробраться, не потеряв равновесия, по длинной балке между двумя широкими слуховыми окнами художественной мастерской, потом по крыше обсерватории и через главный водосток обратно к часовне. Я знаю десяток способов удрать. У меня есть ключи, и мне известен каждый закуток, каждый проход и каждая черная лестница. Мы им не дадимся. Я даже в восторге, несмотря ни на что, — уже вижу, как мы снова дружим, забыв ту дурацкую ссору перед лицом такого обалденного приключения…
Пожарная лестница пока что не просматривается, но через минуту-другую я могу оказаться в полной видимости. Риск, правда, невелик. Даже если они заметят мой силуэт на фоне безлунного неба, вряд ли меня узнают.
И я бегу туда, кроссовки прочно цепляются за мшистый скат. Снова раздается голос Слоуна: «Оставайтесь на месте! Сейчас вам помогут!» — но я знаю, что он не видит меня. И вот я уже добираюсь до хребта динозавра, потом выше, на гребень, венчающий главное здание, и сажусь на него верхом. Леона нигде нет. Скорее всего, он прячется с той стороны Колокольной башни, где самое надежное укрытие и где тебя не заметят снизу, если, конечно, не высовываться.
На четвереньках, по-обезьяньи, я быстро продвигаюсь вдоль гребня. Оказавшись в тени Колокольной башни, я оглядываюсь, но отца не видно — ни на пожарной лестнице, ни на дорожке. Леона по-прежнему нет. У башни я перепрыгиваю знакомый колодец, затем из уютной тени обозреваю свое царство крыш. И рискую тихонько позвать:
— Леон!
Ответа нет. Мой голос уходит в туманную ночь узкой полоской.
— Леон!
И тут я вижу его, распластанного на парапете, в двадцати футах передо мной. Он вытянул шею, как горгулья, пытаясь увидеть, что происходит внизу.
— Леон!
Он меня слышит, я знаю, но не двигается. Я начинаю карабкаться к нему, стараясь держаться как можно ниже. Еще не все потеряно: я покажу ему окно, затащу в укрытие, а потом выведу наружу, когда все стихнет, и никто его не узнает и не заподозрит.
Я подползаю ближе; снизу доносится оглушающий рев мегафона. И крышу внезапно заливают огни, красные и синие, мелькает тень Леона, и он снова с проклятиями распластывается. Это приехали пожарные машины.
— Леон!
По-прежнему ничего. Он словно зацементирован в парапет. Голос из мегафона сливается в гигантское скопище гласных, которое валуном катится на нас.
— Вы, там! Не двигайтесь! Оставайтесь на месте!
Я склоняю голову над парапетом — снизу она покажется темным пятном среди многих других. Отсюда виден приземистый Пэт Слоун, длинные неоновые лучи пожарной машины и вокруг нее темные, похожие на бабочек фигурки людей.
Лицо Леона бесстрастно, словно гриб в тени.
— Ты, дерьмо мелкое.
— Давай же, ты! Мы еще успеем.
— Успеем что? Перепихнуться по-быстрому?
— Пожалуйста, Леон. Это не то, что ты думаешь.
— Правда, что ли?
Он смеется.
— Пожалуйста, Леон! Я знаю, как выбраться отсюда. Но нужно спешить. Сюда идет мой отец…
Молчание, глухое, как могила.
Голоса под нами сливаются в смутное облако, словно дым от костров. Над нами Колокольная башня с выступающими балконами, перед нами колодец, отделяющий крышу башни от крыши часовни: вонючая расщелина в форме воронки, по стенам которой лепятся водосточные желоба и голубиные гнезда, сужается книзу до тесного зазора между строениями.
— Твой отец? — отзывается Леон.
За спиной раздается какой-то звук. Я поворачиваюсь и вижу человека, который стоит на дорожке и перекрывает нам путь к спасению. Нас разделяет пятьдесят футов крыши, и, хотя дорожка достаточно широка, он пошатывается, словно канатоходец, — кулаки сжаты, лицо напряженное, сосредоточенное — и дюйм за дюймом подбирается к нам.
— Не двигайтесь, — говорит он. — Сейчас я вас заберу.
Это Джон Страз.
Он тогда не мог разглядеть наши лица. Нас скрывала тень. Два призрака на крыше. Мы еще можем скрыться, я знаю. Колодец, отделявший часовню от Колокольной башни, глубокий, но его жерло узкое — футов пять в самом широком месте. Мне приходилось перепрыгивать его, уже не помню, сколько раз, даже в темноте риск невелик. Отец не осмелится последовать за нами. Мы вскарабкаемся по скату крыши, пройдем, не потеряв равновесия, по карнизу Колокольной башни и спрыгнем на балкон. А там — сотня мест, где можно спрятаться.
Что потом — лучше не думать. В моем воображении мы снова Буч и Санденс, замершие на стоп-кадре, оставшиеся героями навсегда. От нас требуется одно — прыгнуть.
Хочется думать, что у меня были сомнения. Что мои действия были осмысленны, а не продиктованы слепым инстинктом зверя, спасающегося бегством. Но все, что случилось после, для меня теперь словно в вакууме. Наверное, именно тогда у меня пропала способность видеть сны — наверное, все сны моей жизни разом явились мне в тот миг, чтобы больше не приходить никогда.
Хотя в то время мне, наоборот, казалось, что я просыпаюсь. Просыпаюсь после стольких лет жизни во сне. Мысли неслись, сверкали у меня в мозгу, как метеоры в летнем небе.
Леон, смеясь, прижимает губы к моим волосам.
Мы с Леоном на газонокосилке.
Леон и Франческа, которую он никогда не любил.
«Сент-Освальд» и близость, невероятная близость моей победы в этой игре.
Время остановилось. Я — словно звездный крест, вишу в пространстве между Леоном с одной стороны и отцом — с другой. Да, хочется думать, что у меня были сомнения.
Леон посмотрел на меня.
Я — на него.
Мы прыгнули.
1
Школа для мальчиков «Сент-Освальд»
Запомни, запомни пятое ноября —
Порох, измену и заговор.[52]
Вот наконец и она — анархия восторжествовала в «Сент-Освальде», подобно чуме. Мальчики пропускают занятия, уроки срываются, многие из моих коллег вообще не появляются в Школе. Дивайн отстранен от работы на время расследования (это означает, что я возвращаюсь в свой старый кабинет, хотя никогда еще победа не приносила мне так мало радости), Грахфогеля и Пуста постигла та же участь. Еще больше народу вызывают на допросы, в том числе Робби Роуча, который закладывает всех направо, и налево, и по центру в надежде отвести подозрения от себя.
Боб Страннинг ясно дал понять, что мое присутствие в школе вызвано лишь крайней необходимостью. По словам Аллен-Джонса, мать которого входит в Попечительский совет, мое будущее обсуждалось на последнем заседании с участием доктора Пули (отца мальчика, на которого я «напал»), и тот потребовал немедленно отстранить меня. В свете последних событий (и прежде всего из-за отсутствия Слоуна) не нашлось никого, кто выступил бы в мою защиту, и Боб сделал вывод, что только исключительные обстоятельства приостановили вполне законный ход дела.
Я взял с Аллен-Джонса клятву, что он никому не расскажет, — значит, об этом уже должна знать вся средняя школа.
Подумать только, несколько недель назад мы так волновались из-за школьной инспекции. А теперь наша школа на грани краха. Полиция все еще здесь и явно не собирается нас покидать. Мы ведем уроки, словно в изоляции. Никто не подходит к телефону. Никто не выносит мусор, полы не моют. Шаттлуорт, новый смотритель, отказывается работать, пока Школа не предоставит ему новое жилье.
Что до ребят, они тоже чувствуют неминуемый крах. Сатклифф явился на перекличку с полным карманом шутих — сами представляете, какой был кавардак. Во внешнем мире мало кто верит, что мы переживем этот кризис. Школу оценивают по последним результатам, и если мы не сумеем справиться с бедами этого триместра, то вряд ли можно рассчитывать, что в этом году хорошо сдадут ОССО,[53] не говоря уже об отличниках.
Моя латинская группа пятиклассников, возможно, справилась бы, поскольку они прошли всю программу в том году. Но немцы здорово пострадали в этом триместре, как и французы, у которых мало шансов наверстать упущенное, ведь они потеряли двоих: Тапи, которая отказывается вернуться, пока ее дело не будет улажено, и Грушинга, которому из сочувствия предоставили отпуск. На других кафедрах те же трудности: по некоторым предметам пропущены целые разделы обязательной программы, и заняться этим некому. Наш Главный большую часть времени сидит, запершись в кабинете. Боб Страннинг взял на себя обязанности Слоуна, но справляется с ними не очень.
К счастью, Марлин здесь и занимается делом. Выглядит она не так шикарно, более деловито, волосы убраны с ее угловатого лица в строгий пучок. Времени посудачить у нее сейчас нет: целыми днями она разбирается с жалобами родителей и вопросами журналистов, интересующихся ходом полицейского расследования.