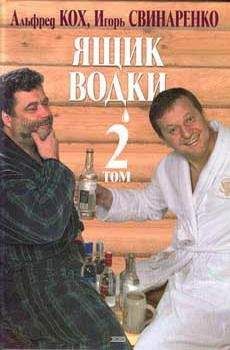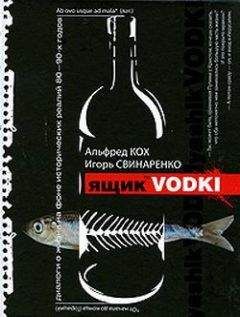— Ну почему? Пидорасы за мной ухаживали в молодости. Ничего интересного, я тебе скажу. Я понял тогда, когда за мной пидорасы ухаживали, что, когда за тобой ухаживают…
— (Печально.) А за мной никто не ухаживал…
— Так вот я понял, что, когда тебе с человеком не хочется е…аться, а он пристает с ухаживаниями, то это просто тошно. И ты думаешь одну думу: когда же вы отъе…етесь?
— Да?
— Я тебе говорю.
— Наверно, да…
— Вот ты сейчас если окинешь взглядом жизнь вокруг — то поймешь, что чаще всего мужские ухаживания бабам и не нужны.
— Да …
— Забавно, вот я нашел в старом блокноте удивительную запись, датированную 29 апреля 2000 года. За весь день одна запись: «Напился».
— Ха-ха!
— Что было? В какой связи? Не помню. Но, видимо, серьезно. Потому что оставил в анналах.
— В анале оставил?
— В анналах.
— А какая разница?
— Анал — это прилагательное. Anal sex. Существительное же будет анус. Ферштейн? А аннал с двумя НН — это уже другая история. Это существительное. Тут не спутаешь. Значит, 1 Мая отмечал на даче у Долецкой. В Ватутинках.
— Кто такая Долецкая, расскажи мне. Я никак не могу понять, почему вы ее все взахлеб любите.
— Почему мы любим Долецкую? Во-первых, с ней можно сесть, выпить. Так, знаешь, душевно. Потом, она вообще так соображает. С ней так разговариваешь нормально. Чаше бывает, с бабами разговариваешь и думаешь: «Этого ей не скажи, того не скажи, не поймет, обидится — так, хиханьки-хаханьки, и ничего более». Обычно же как? Сидят люди, разговаривают разговоры, обстановка теплая, неформальная. А приехали бабы — все, разговор окончен, настроение сразу другое, — почти всегда же так.
— Да.
— А приехала Долецкая — так разговор нормально продолжается, все в том же духе. Вот это интересно.
— Ну это же чистая мимикрия. Это образ своего парня.
— Да и ладно, пусть бы и мимикрия. Зато, по крайней мере, чувствуешь себя естественно.
— А я хочу, чтобы, когда бабы приезжали, мужчины замолкали.
— Ну мы же не должны всех женщин… э-э-э… использовать по назначению, правильно?
— Но мы хотя бы должны не сквернословить перед ними. Ну, хотя бы стремиться.
— Думаешь? Ну— Ну… Еще вот открыли памятник Ерофееву в 2000 году.
— Веньке?
— Да. На площади Борьбы. Все-таки приятно. И, кстати, Веня Ерофеев — он был католик.
— Как Чаадаев?
— И как артист Владимир Машков. С Веней мне не очень это понятно — отчего он католик. Вообще же я его искренне считаю глубочайшим писателем, серьезнейшим автором.
— Что же он тебе открыл нового в твоей глупой и нелепой жизни?
— Ну, книжка его читается без отрыва, она весьма пронзительная. Я ее читал еще при советской власти, «Москва—Петушки». А недавно вот прочитал издание с комментариями, которые по объему раз в 10 превосходят основной текст.
— В нашей книжке тоже до хера комментариев.
— Я думал, на тебя, на твое творческое развитие в этом смысле повлиял Ерофеев, что ты по его следам так увлекся комментариями. А он ни хера на тебя не повлиял, как выясняется.
— Нет. Я самодостаточен.
— Комментарии к Вене написал некий русский, который живет, кажется, в Японии, — видимо, у него там избыток досуга, и вот он написал такую забавную вещь. Там объясняется, что куча шуточек из книжки построена на либретто опер. Потому что Веня был страшным ценителем оперного искусства. Потом там объясняются все политические, все литературные аллюзии — я был этим глубоко тронут. Факт построения памятника Ерофееву мне кажется позитивным каким-то явлением.
— А мы с тобой какие писатели — андеграунд или не андеграунд?
— (Вздох,) Я думаю, сука, неформатные в основном, как верно заметил господин Парфенов.
— …отлученный от телевизора.
— Да… Исповедальная проза — помнишь, ляпнул кто-то? И это — про «Ящик водки»!
— Да. Исповедальная. Ха-ха!
— Сейчас же застой в литературе, а тут мы… Так вот, читал я про Веню книжку одной дамы, которая считалась его официальной любовницей, при наличии жены. Жена это все терпела, поскольку Вене объявили, что у него рак гортани…
— Я помню с ним интервью, когда он какой-то прибор прислонял к горлу и говорил.
— …и жена так рассудила: раз человеку все равно на днях помирать, месяцы его сочтены — так чего уже херами мериться с любовницей, пусть она приезжает иногда к умирающему… И она допустила эту любовницу, которая пописывала чего-то и сделала маленькую книжечку про последние дни Ерофеева — бесценный документ. И я читал вот эти все жуткие сцены тем не менее между бабами, разборки. Одна говорит: это благодаря мне он стал великим. Другая спорит, тянет лавры на себя… А сам он ругался матом, то одну гнал, то другую.
— А он стал великим?
— Веня? Я понял, тебе он не очень как-то нравится, а мне — так дико симпатичен.
— Нет, ну вот эта формулировка — симпатичен — она изначально предполагает отсутствие величия. Симпатичен ровно потому, что он ровен нам.
— Симпатичен — это для меня круче, чем великий.
— Да? То есть, условно говоря, Чехов тебе более симпатичен, чем великий?
— Да. Если ты мне симпатичен — значит, это для меня круто. А если я о тебе не думаю, то ты мне по херу.
— Если говорить о русском языке, то я понимаю, что я никогда не смогу писать, как Чехов.
— Какие твои годы!
— Мне уже столько лет, во сколько Чехов уже умер. Поэтому это исключено.
— Но Лев Толстой в твои годы был еще мальчик.
— А Лев Толстой с точки зрения инструментария был довольно слабый. Пушкин был сильный, но он тоже уже умер. Лермонтов был сильный, но он тоже уже умер. Я остался один.
— Ты забыл, что я, б…, еще жив.
— Ты не дорожишь русским языком. Я смотрю на твою пунктуацию, на твои слова — нет, ты не дорожишь языком.
— Да? Невнимательно ты читаешь меня, — ответил классик классику.
— А Бунин, да, еще жив был. Сколько лет ему было, когда он умер?
— 72, что ли.
— Вот. Писал по-русски. Горький. Горький, кстати, неплохо руководил русским языком.
— Горький смазался как-то весь от своего большевизма — он как Ходорковский вернулся с Запада за каким-то хреном.
— Ха-ха! Это ты сейчас выдумал?
— Конечно.
— Ему приставили девушку-кагэбэшницу.
— Обоим, Горькому и Ходорковскому, сказали: мы ваши активы поставим на службу рабочим и крестьянам. Только Ходорковского всерьез законопатили…
— А Горького хотя и отправили на Беломоро-Балтийский канал, но в ознакомительную поездку.
— Я читал, что он кого-то освобождал там.
— Да ладно!
— На канале.
— Все это детский лепет. Чистый мудак был. Старый идиот: из Сорренто приехал в Москву!
— А ты бы в 37-м не поехал из Сорренто в Москву?
— Нет.
— А я вот в Сорренто не был, поэтому мне трудно говорить о том, какое бы я принял решение.
— Да, действительно. Мы говорим в разных весовых категориях.
— А в Москве, в отличие от Сорренто, я бывал. Вчера буквально там был. Да… И Веня в Сорренто не был. При том, что он уже был велик, на тот момент конца советской власти. Его книги издавались по всему миру, уже реально какие-то бабки ему присылали. Он выступал в ЦДЛ. Естественно, его куда-то звали на Запад. Не только выступать, но и сделать операцию на горле, чтоб он еще пожил. Так представляешь, ему наши не дали визу выездную!
— Да? Вот прелесть.
— Сказали: вы, Веня, подохнете здесь. На Запад мы не пустим вас делать операцию! Представляешь?
И он жил и умирал ровно с тем вот, что чекисты не пустили его на продление жизни на Запад.
— Ас другой стороны, сейчас бы исписался весь…
— Он вообще писал мало.
— Он был бы вторичен. Его бы везде возили как живого классика. Он был бы пустой, как бубен шамана.
— А кого возят из живых классиков?
— Войновича, например.
— А Битова что-то не возят.
— Евтушенко зато возят. И Плисецкую. Куда-нибудь в Экибастуз, с творческими вечерами. И местная интеллигенция на них там ходит вся.
— Так скоро и мы начнем в Экибастуз торить тропинку.
— Ха-ха! Так бы и Веничка ездил. Абсолютно правильно кагэбэшники поступили.
— Ну, они всегда поступают почему-то правильно.
— Вот, они сделали из него мученика. Сейчас уже роль литературы упала. Ну писатель — кого это е…ёт? В общем, никого.
— Да. Это наше частное дело. Еще в 2000 году я начал участвовать в открытии и закрытии навигации на реках региона. Объясню: есть такой человек, Канторович Вова, который, когда учился, делал вид, что он родственник академика Канторовича, и ему за это ставили пятерки.
— Я, между прочим, был знаком с академиком Канторовичем.
— Да ты что!
— Да. Мой научный руководитель, царствие ему небесное — открывай еще бутылочку, — был партнером у академика Канторовича, и они довольно тепло дружили. И я какую-то даже бумажку передавал ему из Питера в Москву. Я видел его живьем.