Дневник Саши Сонли. 2008
Vain was the help of man. [116]
Двадцать второе июля. Жаль, что инспектор больше не читает моего дневника.
Полагаю, теперь он читает Аристотеля и вскоре узнает, что злые поступки совершаются по доброй воле. Тем лучше для него. У меня и без того забот хватает. В номере для новобрачных валяются скомканные простыни, залитые пивом и перепачканные черной помадой, в ванной забился сток, а на зеркале написано: Жизнь это боль!!!
Разберусь с этим позже, теперь нужно заняться девочкой, у меня приличный запас хлопьев и коробка яиц, в кладовке, кажется, осталось немного шоколаду. С Младшей хлопот немного, пока она спит, будто змеедева Ехидна [117] в своей пещере, а ребенка, похоже, придется поручить горничной — через полчаса я поеду на торговый склад в Торни, купить угля, пока деньги не разлетелись.
— Расскажешь, кто отец девочки? — написала я Младшей перед тем, как дать ей первую порцию, но она покачала головой: расскажу, когда ты оставишь свои глупости и начнешь разговаривать.
Самое время пожалеть о моей немоте. Не будь я немой, спела бы ей блейковскую песенку, которую пела, когда ей было пять с половиной лет. Они с Хеддой прибыли в пансион на папином залатанном «остине» и стояли у ворот, растерянно озираясь, обе крепенькие, растрепанные, в зеленых кофтах, похожие, как два куста верещатника.
I have no name: I am but two days old
What shall I call thee?
I happy am, Joy is my name. [118]
Я бы спела это ей, когда она выпила моего отвара, принялась зевать и легла в постель, свернувшись, будто травяная лягушка, на той самой кровати, где в девяносто девятом я в первый раз положила ей руку на грудь. Правда, тогда не нужно было ее привязывать. А теперь вот пришлось. Для этого я взяла нейлоновый чулок, от веревки остаются следы — на ее коже от чего угодно остаются следы.
Потом я вышла в сад и посмотрела на луну.
Луна была полной и белела свежим срезом, словно дерево, спиленное под корень. Я сочла это хорошим знаком и вернулась в дом, чтобы выпить чаю и немного подумать.
***
…Если нужно ей хоть версту отъехать от Рима, и тогда она по книжке выбирает время отъезда; если женщина — бедная, она пойдет к хироманту и поцелуями заплатит за гадание.
Вот он, Уэльс: гудящий под ногами ненадежный причал, железная ребристая лесенка, лоснящийся ил, смешанный с грязным песком, сходни, припорошенные солью, туман, оседающий на вереск ледяными каплями.
Бывает и другой Уэльс: в нем живет отчетливая, режущая глаз белизна, грубый утренний свет пропитывает предметы насквозь, отмечая собой все чистое, безупречно белое — колотый сахар в фаянсовой сахарнице, яичную скорлупу, забытую на стуле ажурную блузку.
В такие дни длинные полотнища света ложатся на стены и пол, высвечивая пыль в углах и следы от гвоздиков, на которых когда-то держались гравюры почтмейстера — «Портрет слуги», «Девушка с креветками» — лубочный Хогарт из сувенирного магазина, нерушимая верность, доблестная беспомощность.
Но теперь дожди, туман отступил от берега и низко висит над пристанью, от которой только что отошел ранний паром в Ирландию. Однажды я буду стоять там, на палубе Норфолка, крепко держась за свежевыкрашенные белые перила с потеками мгновенной ржавчины, и смотреть вперед, на приближающийся берег, весь в марсианских рытвинах.
Не то чтобы я хотела в Ирландию, нет, просто однажды надо попробовать — забыть про прачечную, молочную и чайную лавки, закутаться в кашемировый платок и сесть на корабль. Просто так, скажем, чтобы узнать: водятся ли Синие Люди в проливе Лонг и Шайент. [119]
Синие Люди были самые поэтичные чудовища в здешних местах, они жили в подводных пещерах, говорил мне отец, когда хотел меня повеселить. Быстро всплывая из ниоткуда, они проносились синей свистящей стаей и топили торговые корабли. Они говорили человеческим языком и владели штормами, молнией и северным ветром.
Но могли пощадить, если ловкий капитан отвечал в рифму на их последнее слово.
***
…Кто может сидеть под деревом, исполняющим желания, не думая о тиграх?
Двадцать третье июля. Зачем я связала ее? Зачем я усыпила ее?
А зачем она стала говорить о жестком сыром сердце? Зачем она читала в маминой спальне, забравшись на постель со своими распухшими ногами? Зачем она ударила плачущую Фенью по щеке?
Мне нужно подумать, а для этого надо, чтобы Эдна полежала спокойно. Я буду давать ей маковый чай столько, сколько понадобится, даже если придется сварить все высушенные головки из запасов в кладовой. Я буду давать ей маковый чай, пока внутри у меня не перестанет дрожать вольфрамовая жилка ярости.
Чем я хуже Гипноса — тот дал Деметре мака, чтобы она перестала искать дочь и занялась своей тучной пшеницей. Я же угощу им тучную Младшую, чтобы она дала мне передышку и перестала искать неприятностей.
Мама говорила мне, что хамелеоны меняют цвет, чтобы их не заметили враги, притворяются листвой, травой, корой дерева. Когда я выросла, то узнала, что это неправда — они меняют цвет от холода или от голода, даже от страха могут поменять. Младшая поменяла цвет от злости, вернее — она совсем лишилась цвета, а от ее запаха меня мутит, как будто я стою перед тем чудовищем из саги, которое в день своей смерти породило тучи мух, муравьев и вшей, разлетевшихся по белому свету.
Кстати, чудовище родилось не просто так, а от любовной связи близких родственников, но мы здесь ни при чем — Младшая никогда не была мне сестрой!
Да и связи никакой не было, так, бессвязный лепет плоти.
Поверить не могу, что я хотела вернуть ее домой, эту неряшливую цереру с шелушащимся лицом — она подцепила какую-то дрянь в москитном Хочине и стала еще больше похожа на свою розовощекую мать.
Когда я была такой, как Фенья, нет, чуть постарше, мы верили, что если заглянуть внутрь маковой коробочки, то ослепнешь, похоже, я заглянула в нее тогда, и довольно глубоко.
Иначе — как я могла не заметить этого сходства двадцать лет назад? Хотя бы в один из тех летних дней, когда они сидели рядом на качелях, одинаково откинув две кудрявые головы и бессмысленно щурясь в пересохшее небо. Мать и мачеха Эдна-на-на и Хедда-да-да. Две обвитые маковыми гирляндами Персефоны, спокойные и полнокровные, качающие босыми ногами в такт неведомой мелодии — да что это со мной? Почему я все время думаю о маке?
Потому, что пора заварить новую порцию.
Письмо Дэффидда Монмута. 2006
Ты не поверишь, я начал читать по-русски — ту допотопную книжку, что ты отдала мне, разбирая коробки на чердаке. Читаю пока по складам, имена героев непроизносимы совершенно, зато я уже сообразил, кто там дуб, а кто падуб, и за какую даму они сражаются.
Когда я взялся за самоучитель, увидел фонетическую таблицу в самом начале и принялся округлять рот и так и сяк перед зеркалом, мне померещилось, что я слышу твой смех. Помню, как ты смеялась, научив меня старинной скороговорке, до сих пор могу ее быстро произнести:…чай пили, ложки били, по-турецки говорили, чаби, чаляби, чаляби, чаби, чаби!
Наша помолвка была обречена, Сашенька, и не потому, что я старше на шестнадцать лет и боялся оказаться на четвереньках, оседланным юной Кампаспой, и не потому, что ты была чем-то перепугана и не давала себя коснуться, хотя источала пряный аромат, как вымышленная пантера [120] из александрийского «Физиолога» — помнишь, я приносил его почитать летом девяносто пятого?
Нет, эта затея провалилась, потому что ты искала в мужчине то, чего во мне не было. Я готов был стать отцом, братом, любовником, любым листочком из фрейдистского гербария, но я не готов был стать кабальным, безропотным читателем, а тебе нужен был читатель, Саша, читатель, и только.
Когда ты не приехала в Сноудонию, я вздохнул с облегчением, а когда получил свое кольцо в конверте с орнитологической надписью, даже засмеялся. Надеюсь, тебе понравился мой ответный подарок, если тебе понадобятся к нему серебряные пули, дай мне знать.
Иногда я думаю, что Монмут-Хаус мог бы подарить тебе то, чего ты ищешь, — спокойный кабинет с видом на пустошь, заросшую утесником, тишину и время, много времени. А ты могла бы дать мне то, что я ищу — нежную тускуланскую собеседницу, [121] с которой я мог бы говорить о пределах добра и зла, эвдемонии и способах оградить себя от печали.
Но, стоит мне представить это в картинках, я вздрагиваю от предчувствия беды.
Однажды, в Картрефе, ты рассказала мне о случае со школьным лагерем — когда ты отравилась лесными грибами и попала в деревенский госпиталь, который и госпиталем назвать было трудно — так, две комнатушки, выкрашенные в белое, с окнами в сад.
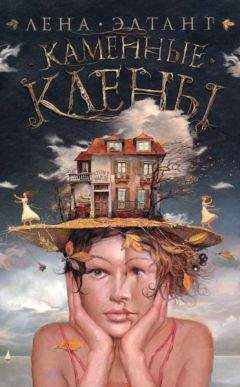



![Ричард Адамс - Обитатели холмов [издание 2011 г.]](https://cdn.my-library.info/books/49785/49785.jpg)
