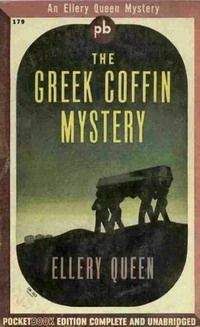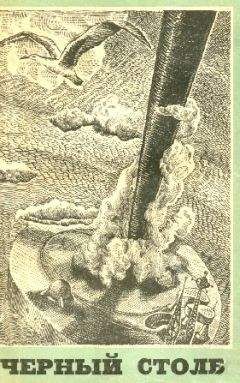– Проверяли?
– А как же! Вчера вот. Он открыл чемоданчик – а там принадлежности для бритья. Пошел со мной в дом. Учитель сказал, что пригласил меня: он не может сам бриться. Теперь уже больше не проверяют. Этот чемоданчик я оставлю там, а тот, второй, в котором рация, вынесу. Он точно такой же.
– А если все-таки проверит?
– Не проверит! – Она улыбалась. – Вот приставать, назначать свидание будет наверняка; они всегда пристают. Или приглашать на танцы в «Мирабель»… Ой, я не танцевала уже целую вечность.
– И ты пойдешь?
Она покачала головой:
– Нет.
– Но все-таки пообещаешь?
– Я всем обещаю. Жалко, что ли.
– А если потом снова встретишь?
– Ну и что? Снова наобещаю.
– И поверят?
– Поверят. Мне все верят.
– Я тоже, – сказал я шутя.
Она взглянула на меня серьезно:
– Не говори так.
– Почему?
– Как ты не понимаешь? Они – другое дело. Они враги, у них танки, пушки, автоматы, пистолеты. А у меня улыбка, накрашенные губы, вот эта шляпка, вот эти туфельки – им очень нравятся такие туфельки, на сплошной подошве. Они называют их: танки. И ведь это, в самом деле, не туфельки, не улыбка, не шляпка. Это мои танки, мои автоматы. И мне обидно, когда ты говоришь мне: не улыбайся им, не езди с ними на машине. Я же не говорю: не стреляй в них из автомата.
– Мне не хочется, чтобы ты им улыбалась.
– А мне? Я их ненавижу. А вот улыбаюсь. И даже целую…- Она смотрела на меня с дерзким вызовом. – Целую – слышишь?.. Что ты молчишь? Говори, кто я такая. Я знаю, что ты думаешь.
Я сжал ее пальцы. Так, что они побелели. Она закусила губу, не отводя от меня взгляда.
– Ты… ты… Мне жалко тебя, Аги. Так жалко…
Глаза ее влажно блеснули.
– Ты мне делаешь больно.
Я отпустил пальцы. Она отвернулась. Мне показалось, она плачет. Но она сказала почти весело:
– Смотри, какой симпатичный домик! Ты бы хотел жить в таком?
Я посмотрел на противоположную сторону улицы. Домик, как домик. Крыша с флюгером, сбоку крытая маленькая галерея.
Сердце у меня сжималось от сострадания к ней. Она не хотела, чтобы я видел ее слезы.
Снова церквушка – в городе их не перечесть. Только не такая угрюмая, как другие. Белая, недавно покрашенная, крыша тоже новая, из черепицы. Словно кокетливая девушка в белом платье и красной остроконечной шляпке.
– Давай зайдем, – сказала Аги.
– Зачем?
– Ну, зайдем…
Внутри еще стояли леса из металлических труб, перечеркивая цветную мозаику высоких окон. Пестрые цементные плиты пола были заляпаны известкой.
К нам подошел служитель в белом фартуке поверх пальто: в церквушке было прохладно.
– Жертвуйте на окончание ремонта обители божьей.
Он протянул металлическую кружку для пожертвований, похожую на солдатский котелок.
Я бросил в отверстие несколько мелких тусклых алюминиевых монет. Они негромко звякнули.
«Ремонт обители божьей»… Звучало комично. Словно предстоял ремонт небес – ведь именно там, по представлению верующих, должен был обитать боженька.
Аги села на скамью, предварительно смахнув с нее белую пыль. Кроме нас двоих в церквушке, казалось, никого нет.
Я осмотрелся. Сбоку, рядом с нами, между двумя деревянными колоннами, висела картина, изображавшая божью матерь с сытым веселым лицом и хитро прищуренными глазами. Перед ней, на алтаре, горело несколько тонких восковых свечей. А кругом: на стене, на колоннах, на нижней части алтаря – были развешаны разных размеров мраморные дощечки, большей частью маленькие, с открытку, с выбитыми в камне и покрытыми позолотой трогательно-наивными надписями.
«Будь с ним, святая дева!» – прочитал я на одной из дощечек.
Вероятно, мать молит за сына, отправленного на фронт.
А рядом висит точно такая же дощечка, но уже с другой надписью: «Воля твоя, о матерь божья!»
Все-таки не помогло!
Были и другие надписи: «За спасение от смерти», «Спасибо тебе, святая Мария», «Будь и дальше с нами». Но больше скорбных, исполненных печали и покорности.
И вдруг я услышал сочный звук поцелуя. Он донесся со стороны алтаря, из-за деревянной колонны.
Поцелуй в храме! Заинтересованный, я подался вперед и заглянул за колонну.
Там целовались двое: длинный худющий парень и миниатюрная девушка, еле достававшая ему до плеча.
– Смотри! – подтолкнул я Аги.
Служитель, стоявший неподалеку со своей кружкой, тоже заметил влюбленных. Лицо его побагровело от негодования.
– Нашли место! В храме! Пошли отсюда!
Парень, не снимая рук с плеч девушки, медленно повернул к нему голову:
– Почему это, интересно, «пошли»!.. Вот здесь написано: «Приди и утешься у Меня, скорбящий и болящий». Написано или не написано?
– Ну, написано! – Служитель задыхался от гнева. – Значит, можно безобразничать?
– А мы не безобразничаем. Мы утешаемся…. Меня сегодня в армию забирают, в мясорубку… Ладно, пойдем, Эржи, разве он поймет?
Он взял девушку за руку, как ребенка, и они пошли к дверям, смешные и трогательные. Богородица щурилась им вслед.
Я повернулся к Аги. Она молилась, сложив руки и склонив к ним лицо.
Тихонько я отступил назад и на цыпочках вышел на паперть. Через минуту услышал ее легкие шаги.
– Почему ты не остался?
– Не хотел тебе мешать. Ты веришь в бога?
– Не знаю. Наверное, нет.
– А молишься.
– Вдруг он есть?
Я рассмеялся.
– И о чем ты его просила?
– Чтобы вы быстрее приходили. И чтобы ты… – Она запнулась на миг. – Чтобы ты остался жив… А теперь мне надо идти.
– Уже? Так быстро? Куда?
– Не надо спрашивать. – Она взяла у меня чемоданчик, словно невзначай коснулась на мгновение моей руки. – Я же тебя не спрашиваю. У тебя свои дела, у меня свои.
– Когда мы встретимся?
– Когда скажешь. В семь я заберу рацию.
– Хорошо. Я тоже там буду. На другой стороне улицы.
– Не надо! Я сама справлюсь. Ты мне только помешаешь. Я буду смотреть на тебя, и он заметит. Не ходи! Лучше здесь встретимся, возле церкви, в половине восьмого.
– Тогда уж у тебя, в парикмахерской.
– Нет! Туда с ней нельзя.
– Хорошо, здесь…
Сам же я твердо решил: в семь часов я буду там, возле того дома.
Вдруг гестаповец возьмет да и полезет в чемоданчик? Мало ли что взбредет ему в голову.
В роте меня обступили свободные от заданий солдаты. Они знали, что я ходил в госпиталь.
– Ну как, господин лейтенант?
Я сказал, что капитану сделали операцию, вынули пулю, теперь ему лучше. Они заулыбались, зашумели:
– Видать, нашего господина капитана на том свете испугались!
А кастрюльщик Шимон тут же сочинил под общий смех:
– Переполох на небеси:
«В ад его скорей неси!»
В преисподней тоже:
«Нет, так нам не гоже!»
И отправили назад,
Поставлять фашистов в ад…
Лейтенанта Нема в чарде не оказалось – он отправился с Мештером и еще двумя солдатами разведать обстановку в районе ипподрома, где размещался прибывший на днях в город автобат.
Я прошел на кухню.
Вечером у меня будет рация. В девять, одиннадцать и час ночи меня ждут в эфире… А если уже перестали ждать – прошло немало времени. Тогда что делать?
Там видно будет. Сначала попытаться.
Где установить рацию? У Аги нельзя – она права. Здесь, в чарде, тоже нет – могут засечь, слишком опасно.
У меня на квартире…
А адвокат Денеш? Он не будет подслушивать? Распахнуть дверь настежь. Хотя он в одиннадцать слушает Би-Би-Си. А в час спит без задних ног – его спальня далеко, через три комнаты от меня.
Да, так лучше всего. По крайней мере, первый раз. Они не засекут, не успеют. А следующий раз из другого места.
Где-то тяжело ухнула бомба. От сотрясения отошла дверца шкафа и медленно, с противным скрипом распахнулась. Я поднялся, прихлопнул. Она опять заскрипела, словно хихикая, и, отъехав, закачалась на ржавых петлях.
Пришлось снова встать. На единственной полке стоял стакан, в нем зубная щетка. Рядом паста и станок для безопасной бритвы – лейтенант Нема всегда ходил выбритым до блеска.
В глубине полки лежала книга. Я заинтересовался. Что он читает?
Оказалось, что-то по химии. Я разочарованно бросил книгу обратно. Из нее высунулся край какого-то листка.
Нет, не листок. Фотокарточка. На меня смотрел улыбающийся юноша, чем-то похожий на лейтенанта Нема. Сын? Тот самый, который ушел от него?
Я повернул фотокарточку. На обороте надпись. Быстрый, торопливый почерк.
«Дорогой отец!
Меня приговорили к смерти. Я совершенно спокоен и смирился со своей участью.
Я причинил тебе много горьких минут. Но ты простишь меня, я знаю. Ты сильный человек, я всегда брал с тебя пример. Не надломись и теперь. Подумай, почему я вступил на этот путь, который привел меня к смерти.
Я не жалею об этом, отец. Я и теперь не жалею об этом.
Когда ты получишь фотокарточку, меня уже не будет. Последние мои мысли с тобой. Кроме тебя, у меня никого нет. Так же, как и у тебя. Твой сын Имре».