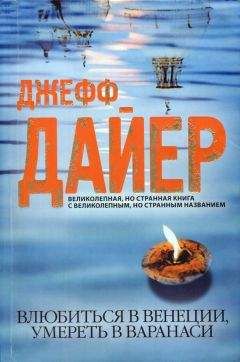Первые полчаса ощущения были такие, словно я просто что-то покурил: как в начале травяного прихода. Мы шли втроем, обняв друг друга за плечи и хохотали над чем ни попадя — в том числе над рекой, сплошной и серой, как запруженное плавучими амфибиями шоссе. Потом началось полное безумие. Мы не совсем понимали, где находимся, но нам, по крайней мере, хватило ума держаться подальше от Маникарники и Харишчандры, где, по словам Даррелла, «от всей этой смерти нам сразу будет крышка». На одном из гхатов мы увидели худого человека с бледной змеей, обмотанной вокруг шеи, словно боа из перьев, которое зачем-то общипали — боа из ручного змея. Воздух был такой неподвижный, что казалось, еще немного — и он застынет как желе. Над городом клубились тучи, словно там, высоко в небе, бушевала гроза — но они растаяли, не проронив ни капли.
Потом мы превратились в призраков. Даррелл куда-то убрел, и мы с Лал остались одни, гадая, куда это он подевался, а вскоре я уже тоже брел куда-то сам по себе, не понимая, куда это запропала Лал. Я не то чтобы сильно тревожился, но жалел, что их нет рядом. И тут я набрел на бабý[180], с дорожным атласом и кустистой бородой. Сперва я решил, что у меня что-то не то со слухом, но вскоре понял, что я не слышу только его. Не слышал же я его потому, что у него было совсем плохо с голосом, который совершенно пропал, так что он теперь говорил молча. За неимением слов он дико жестикулировал. Выражаясь исключительно жестами, он фактически исполнял некий сидячий безмолвный танец. Внимательно приглядевшись, я стал улавливать по этим жестам обрывки фраз и даже отдельные предложения. По мере наблюдения я начал связывать фрагменты его «речи» в единое целое. Через какое-то время я уже без труда понимал его. Он пришел сюда, чтобы отыскать то, что потерял. Что же он потерял? Как оказалось, зонтик. И несколько шариковых ручек. Мы подумали, что это абсурд? Да, конечно, но я понял это так, что важные для нас вещи — айпод или любимые футболки — едва ли были важнее тех, что мы часто теряем, вроде ручек и зонтиков, которые не кажутся нам какими-то ценными, хоть и помогают укрываться от дождя или записывать мысли и номера телефонов. Я был совершенно уверен, что понимаю ход его мыслей, но потом меня осенило, что эта метафорическая интерпретация была слишком буквальной, так как, хотя он и думал, что прибыл сюда под предлогом поиска утраченной собственности, он вдруг понял, что эта потеря на самом деле и была той причиной, которая заставила его сюда прийти, что он пришел сюда, чтобы выяснить, зачем здесь оказался. Оратор сделал паузу, посидел немного неподвижно, позволяя слушателям усвоить сказанное во всей его комплексной простоте, а затем — крайне театральным жестом — извлек откуда-то зонтик и раскрыл его. Это был не просто какой-то старый зонтик. Нет, это был ужасно старый, совершенно бесполезный и вконец раздолбанный каркас зонтика. На нем не было даже полоски ткани. Это был просто металлический скелет, не способный укрыть ни от дождя, ни от солнца.
Чуть позже, уже в сумерках, я снова увидел козу с белой шерстью и в чудных черных носочках. Ту самую, которая вроде как хотела со мной поговорить. Увидав меня, она бросила свои дела и пошла рядом. От нее немного пахло сыром, козьим сыром. Я почувствовал, как что-то коснулось моей ноги. Это коза легонько толкала меня лбом. Я посмотрел в ее приветливое козлиное лицо.
— Лодку, сэр? — сказала она.
— Нет, спасибо, — сказал я.
— Очень дешево, сэр! — сказала она.
— Нет, спасибо, — сказал я.
— Сэр хотеть лодку? — продолжала настаивать коза.
— Сэр идет ножками, — возразил я. — Лодка нет, не хотеть.
— Очень дешево, — сказала коза.
— Нет, спасибо, — сказал я.
Я замедлил шаг, и коза, чувствуя мои колебания и расценив их как желание, чтобы меня поуговаривали, попробовала другой подход:
— Сэр думает, это хорошо — быть козой в этом городе? Жить тут тяжело. У меня есть дети, сэр. Я предлагаю вам лодку, но на самом деле хочу всего лишь поговорить. Небольшой философский дискурс, сэр.
Я остановился, чтобы обеспечить козе то внимание, которого она желала и явно заслуживала.
— Хорошо. О чем ты хочешь поговорить?
Коза немного подумала.
— Может, все же лодка, сэр? — наконец сказал она.
— Я думал, ты хочешь философский разговор.
— Шучу, сэр. Я хочу спросить: каково это — иметь человеческие мысли в голове? Насколько человеческое сознание отличается от сознания козы?
— Это очень сложный вопрос. Чтобы ответить на него, мне нужно лучше понять, что значит быть козой. По правде говоря, мне кажется, ты просто немного потерялась в своем козлином мире.
— В этом вся проблема, сэр. Поскольку я коза, у меня нет способов объяснить, что такое быть козой.
— Что ж, в том-то и заключается разница. В способности облекать все в слова. Включая язык, речь, самоанализ.
Я не знал, что еще сказать. Похоже, мне самому не хватало именно тех качеств, которые по идее должны были отличать меня от моей собеседницы. Чем больше я старался выразить разницу между собой и козой, тем больше между нами находилось общего.
— Знаешь, мне надо хорошенько все обдумать. Ты застала меня врасплох. К тому же, честно говоря, я сейчас не в лучшей философской форме. Может, поговорим об этом в другой раз?
— Завтра, сэр?
— Да, может быть.
— И еще одно, сэр. Скоро придет Гануна.
— Гануна? Откуда ты знаешь про Гануну?
— Я только знаю, что Гануна скоро явится. В кенгуриной сумке. Но только те, кто и сами Гануна, смогут его увидеть.
С этими словами коза развернулась и потрусила прочь, а я услышал, как кого-то зовут по имени. Оно звучало вроде бы знакомо, но мне понадобилось некоторое время, чтобы понять, что оно, кажется, принадлежит мне, а зовут меня друзья, чьих имен я сейчас, правда, не помнил.
— Да, думаю, этот опыт лучше пока не повторять, — сказал один из них (Даррелл, вот как его звали!) на следующий день. Он сказал это так, словно все уже кончилось и прошло, но я подозревал, что ко мне это не относится. Какая-то часть меня все еще была там.
В чем-то Лалин оказалась права: я никого не будоражил, но жил совсем как обезьяна. Было так славно есть бананы под куполом небес и смотреть на реку. Река текла на восток, справа налево, к океану, но не впадала в него, как любая разумная река. Здесь, в Варанаси, она передумывала и возвращалась обратно, к источнику (еще одна мысль, впервые посетившая меня в одном транс-клубе в Лондоне). Она поворачивала обратно к Гималаям, где, собственно, и стартовала, где жили боги, откуда они явились и куда вернулись, и где пребудут вечно. Туда-то и несла свои воды священная Ганга. Значило ли это, что в нее стоит кидать как подношение набитые оранжевыми ноготками пластиковые сумки? Какой был в этом смысл? Каждый день я видел, как люди это делают. Что было явно глупо. Если все станут кидать в реку пластиковые пакеты, то получится река из пластиковых пакетов, и тогда она уже будет не такой святой. Я доел банан. Выглядел он не очень, но на вкус это был один из лучших бананов, которые я когда-либо ел, так что я тут же очистил еще один — он оказался таким же бесподобным (ну почти что), как и первый.
Вкуснотень.
Над Панчакот-гхатом, обратившись лицом к восходящему солнцу, сидел какой-то гуру, а может, и лжегуру, и наставлял горстку слушателей. У его ног лежали, взирая на Ганг, два пожелтевших человеческих черепа. Были они там лишь для антуража или он и вправду хотел этим что-то сказать? Бог его знает, но в любом случае они не особенно следили за ходом его мыслей. Вид у них был довольно отсутствующий. Что бы он там ни говорил, они уже явно это слышали. Он подозвал меня, и я подошел и сел рядом с его приятелями, или последователями, или кем там они были. На одном из них была футболка клуба «Челси» с именем Джона Терри на спине. Эта яркая футболка почему-то удручала. Подобно тому, как удручали местные мальчишки, когда, стремясь блеснуть хорошим знанием английского, выкрикивали «Вот так сиськи!»[181]. Глаза святого человека были налиты кровью — что неудивительно, учитывая, каких размеров косяк он курил. Выдохнув могучее облако дыма — с его дредлоками и прочим из этого мог бы выйти отличный снимок в стиле регги, — он протянул мне один из черепов, чтобы я получше его рассмотрел. Я еще никогда не держал в руках человеческий череп, так что это было довольно интересно. У меня в голове не возникло ни единой мысли о бренности жизни, или о душе, или о тщетности любых человеческих усилий перед лицом неизбежной смерти, но зато я начал волноваться, что, пристально разглядывая череп, я невольно выказал подспудное намерение его приобрести. Впрочем, по здешним меркам это была не самая бездарная покупка. У меня мелькнуло желание зафутболить череп в Ганг — думаю, у меня бы это получилось. Но вместо этого я осторожно положил его обратно на землю. Чувствуя, что нужно что-то такое сказать — как когда кто-то показывает тебе свои стихи или фотографии, — я пробормотал: