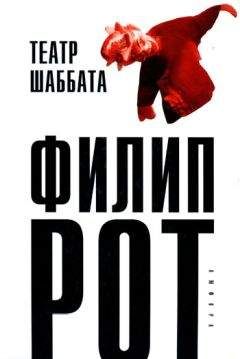По дороге домой он слушал «The Sheik of Araby»[98]. На свете мало найдется таких правильных вещей, как эти четыре ярких соло. Кларнет. Фортепьяно. Ударные. Виброфон.
Почему теперь никто не ненавидит Тохо? Никто не помнит этого убийцу, кроме меня, этого генерала с его давней мечтой — уничтожить мир. Они думают, Тохо — это автомобиль. Но спроси корейцев, они расскажут, как японцы об них ноги вытирали тридцать пять лет. Спроси маньчжуров про вежливость и корректность их завоевателей. Спроси китайцев — они расскажут тебе, какое удивительное понимание проявили эти маленькие плосколицые империалистические ублюдки. Спроси их о борделях для японских солдат, там было полно девочек, таких, как ты. Нет, моложе. Декан думает, что это я враг. Хо-хо! Спроси-ка ее, как их мальчики, возвращаясь домой, просто протрахали, продрали себе путь в свою Азию, спроси о тех женщинах-иностранках, которых они опустили и сделали шлюхами. Порасспроси в Маниле про бомбы, про тонны бомб, сброшенных японцами уже после того, как Манила стала свободным городом.
Кто знает, возможно, однажды Учительница, наставляя своих девственных овечек, отвлечется на часок от темы «сексуальные преследования» и хотя бы упомянет о небольшом ужастике под названием Вторая мировая война. Японезы. Такие же высокомерные расисты, как и все расисты, — по сравнению с ними куклуксклановцы — это… Но откуда вам знать о ку-клукс-клане? Откуда вам вообще о чем-то знать, пока вы в лапах ваших учителей? Хочешь компромат на японезов? Спроси мою мать, эта женщина знает, что такое преследования. Спроси ее.
Он громко подпевал квартету, притворяясь, что он Джин Хохберг, вот кто умел завести свингом толпу подростков. Шаббат с наслаждением погрузился не столько в популярную песню двадцатых, в этот чернящий арабов гимн изнасилованию, сколько в бесконечный, отталкивающий, пронзительный спектакль, где с радостью играл роль дикаря. С чего бы миссионерам так возбухать, не будь дикарей. Эта их долбаная наивная нетерпимость к плотскому влечению! Совратитель малолетних! Сократ, Стриндберг и я. И все равно он прекрасно себя чувствует. Стеклянное позвякивание молоточков Лайонела Хемптона — это помогает от всего. А может, потому стало легче, что Рози больше не путается под ногами. А может, от сознания того, что он никогда не стремился быть приятным кому-то — и начинать не намерен. Да, да, да, он вдруг почувствовал неконтролируемую нежность к своей собственной загаженной жизни. И смехотворный голод: еще! Еще поражений! Еще разочарований! Еще одиночества! Еще артрита! Еще миссионеров! Чтобы с Божьей помощью еще какая-нибудь дала! И еще во что-нибудь вляпаться! Конечно, бездумное ощущение, что ты просто жив, не делает существование менее отвратительным. Возможно, он не герой детского утренника, но, что бы вы обо мне ни говорили, это была настоящая человеческая жизнь!
Так знай же, милая, что я —
Арабский шейх, а ты — моя.
В шатре сидишь, потупив взор,
Я пробираюсь в твой шатер.
И звезды в черной вышине
Дорогу освещают мне.
Со мной ты обретешь весь мир.
Я — шейх, а ты, ты — мой кумир.
Жизнь совершенно непостижима! У Шаббата получалось, что он только что выбросил из своей жизни девушку, которая вовсе не была ни предательницей, ни сукой, и быть не могла — простоватую, авантюрного склада девочку, которая любит своего отца и не способна обмануть взрослого человека (разве только папу — с Шаббатом); получалось, что он только что отпугнул последнюю из двадцатилетних, в чей шатер мог бы пробраться ночью. Он принял невинную, любящую, верную Корделию за одну из ее подлых сестер, Регану или Гонерилью. Он так же поздно спохватился, как старый глупый Лир. К счастью, у него было средство сохранить душевное здоровье: в тот вечер на широкой кровати на Брик-Фёрнис-роуд он трижды отымел Дренку, и так продолжалось следующие двадцать семь дней.
* * *
За две недели, по истечении которых Шаббату разрешено было навестить Розеанну, он получил от нее только убийственно деловую записку, отправленную из Ашера в конце первой недели: без обращения, просто на их адрес в Мадамаска-Фолс — она даже не указала его имени. «Встретимся в Родерик-Хаусе, 23-я улица, в 4.30. Обед в 5.15. С 7 до 8 вечера у меня собрание „Анонимных алкоголиков“. Остановись в гостинице в Ашере, если не захочешь уехать в тот же вечер. Р. Ш.»
Когда в час тридцать он уже садился в машину, чтобы ехать на 23-ю улицу, в доме зазвонил телефон, и он бросился назад через кухонную дверь, думая, что это Дренка. Услышав голос Розеанны, он подумал было, что она хочет сказать, чтобы он не приезжал. Как только повесит трубку, тут же даст знать об этом Дренке.
— Как ты, Розеанна?
Ее голос, никогда не отличавшийся мелодичностью, сейчас и вовсе казался совершенно плоским и ровным. Стальной, суровый, злой и плоский.
— Ты приедешь?
— Я как раз садился в машину. Мне пришлось вернуться в дом, когда зазвонил телефон.
— Мне нужно, чтобы ты привез мне кое-что. Пожалуйста, — добавила она, как будто рядом стоял кто-то и инструктировал ее, что ей сказать дальше и как сказать.
— Привезти? О, конечно, — сказал он. — Все что угодно.
У нее вырвался резкий неприятный смешок. За ним последовало ледяное «это в верхнем ящике стола, в глубине. Синяя папка с тремя отделениями. Она нужна мне».
— Я привезу ее. Но мне придется открыть ящик.
— Тебе нужен ключ, — еще холоднее, если такое вообще возможно.
— Да? Где он?
— В моем ботинке для верховой езды… В левом ботинке.
Но он за годы совместной жизни обследовал все ее ботинки, туфли, кроссовки. Наверно, перепрятала его туда недавно, а раньше держала в другом месте.
— Найди его сейчас, — сказала она. — Прямо сейчас. Это важно… Пожалуйста.
— Конечно. Сейчас. В правом ботинке.
— В левом!
Да, ее легко вывести из себя. И это притом, что две недели срока она уже отмотала, и всего лишь две недели осталось.
Он нашел ключ, достал синюю папку с тремя отделениями и вернулся к телефону, чтобы сообщить ей об этом.
— Ты запер ящик?
Он солгал, сказал, что запер.
— Привези ключ тоже. Пожалуйста.
— Конечно.
— И папку. Она синяя. Перетянута двумя эластичными резинками.
— Вот она у меня в руках.
— И пожалуйста, не потеряй! — взорвалась она. — Это вопрос жизни и смерти!
— Ты уверена, что действительно хочешь получить ее?
— Не спорь со мной! Делай, как я прошу! Мне нелегко даже просто разговаривать с тобой!
— Так, может быть, мне лучше не приезжать? — он прикидывал, достаточно ли безопасно в этот час, проезжая мимо гостиницы, дважды посигналить — знак Дренке, что он ждет ее в фоте.
— Если не хочешь приезжать, — сказала она, — не приезжай. Не надо делать мне одолжения. Если ты не заинтересован во встрече со мной, то я не против.
— Я заинтересован во встрече с тобой. Поэтому я и садился в машину, когда ты позвонила. Как ты себя чувствуешь? Тебе лучше?
Она ответила дрогнувшим голосом:
— Это нелегко.
— Конечно, я не сомневаюсь.
— Это страшно трудно, — она заплакала. — Это невыносимо трудно.
— Но какие-то успехи есть?
— О, ты не понимаешь! Ты никогда не поймешь! — закричала она и бросила трубку.
В папке оказались письма, которые отец писал ей, когда она переехала от него к матери после ее возвращения из Франции. Он писал Розеанне письма каждый день вплоть до того вечера, когда покончил самоубийством. Предсмертное письмо было адресовано Розеанне и ее младшей сестре Элле. Мать Розеанны хранила письма, написанные обеим дочерям, пока сама не умерла год назад от эмфиземы легких после долгих мучений. Эта папка досталась Розеанне в наследство от матери вместе с антикварными вещами, но она никогда не решалась даже снять тесемки, стягивающие ее. Одно время она склонялась к тому, чтобы выбросить папку, но и этого не смогла сделать.
На полпути Шаббат остановился у закусочной на шоссе. Он держал папку на коленях, пока официантка не принесла ему кофе. Потом снял резинки, аккуратно положил их в карман и развернул первое письмо.
Письмо, написанное всего за несколько часов до самоубийства, начиналось словами «Любимые мои дочери, Розеанна и Элла» и было датировано «Кембридж, 15 сентября 1950 г». Рози было тринадцать. Последнее письмо профессора Каваны Шаббат прочел первым:
Кембридж, 15 сентября 1950 г.
Любимые мои дочери, Розеанна и Элла.
Я пишу «любимые» несмотря ни на что. Я всегда старался изо всех сил, и никогда мне ничего не удавалось. И браки мои не удались, и работа не удалась. Когда ваша мать ушла от нас, я сломался. А когда даже вы, мои дорогие девочки, покинули меня, кончилось все. С тех пор я совсем перестал спать. У меня больше нет сил. Я совершенно изнурен и болен от всех этих снотворных. Я больше не могу. Да поможет мне Бог. Пожалуйста, не судите меня слишком строго.