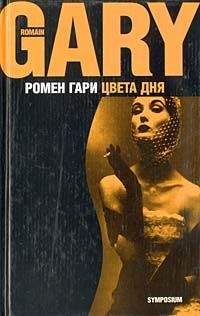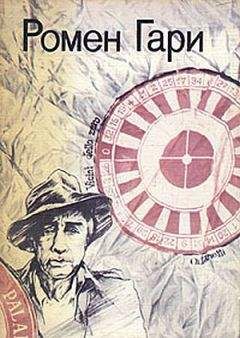Он достал сначала револьвер, затем деньги, затем бумагу, снова засунул деньги и револьвер себе в карман — револьвер был великоват даже для его брюк, которые он всегда выбирал из-за этого широкие и с напуском, и несколько стеснял его движения — и скрутил себе сигарету. Он любил приятные житейские мелочи. Он закурил, вслушиваясь в покой и выжидая. Он вспомнил о Вилли, оставшемся в доме, и покачал головой: он так и не понял, отчего тому приспичило приехать. Это было очень неосторожно. Но это его дело. Главное — деньги у него в кармане, и он собирается честно выполнить свою работу, несмотря на все явные подозрения, которые выказал ему Вилли. У него был свой кодекс чести, да и потом, был ведь еще и Белч, с которым лучше не шутить. У Белча длинные руки. Достаточно длинные, чтобы отправить вас на Сицилию, достаточно длинные, возможно, чтобы вас оттуда забрать. Он спокойно курил. Барон сидел рядом с ним на том же стволе дерева. Он был багровее обычного. На его лице была привычная невозмутимость, но, казалось, ему стоило больших усилий сохранять ее. В его глазах было что-то такое, что в крайнем случае могло сойти за выражение. Некий огонек. Но это, наверное, всего лишь отражалось небо, тем более что глаза у барона тоже были синие.
— Вот они, — тихо сказал Сопрано.
Он не стал спешить. Времени было предостаточно. Пара возвращалась с гор, они только — только появились в конце дорожки. Пройдет еще с четверть часа. Сделав еще одну затяжку, он раздавил окурок о землю и встал. Он вытащил из кармана револьвер и подтянул штаны. Затем подошел к зарослям кустарника и стал ждать. Он выстрелит сквозь шелковицы, затем они, перейдя дорожку, спустятся к Карнизу с другой стороны от поворота. Он встал на цыпочки и огляделся. Затем дошел до поворота, удостоверился, что никто не идет навстречу, и вернулся к шелковицам. Он повернул голову к барону и подмигнул ему. Затем сжал в руке револьвер и чуть высунул голову над зарослями кустарника.
В этот момент барон и выстрелил.
Он был в двух шагах от Сопрано и выстрелил почти не целясь, просто направив оружие в его сторону. Сопрано дернулся назад и внезапно сел на землю, расставив ноги. Барон со смущенным видом стоял перед ним с револьвером в руке. Они смотрели друг на друга. Сопрано сделал ужасное усилие, чтобы понять, почему барон сделал это, но в голове у него стоял шум оливковых деревьев, видно было, как по ним скользила тень от облаков, и ему было трудно собраться с мыслями из-за этого мистраля, который все разгонял, так что у вас в конце концов начинала кружиться голова. Он по-прежнему сидел, опираясь ладонями о землю и пытаясь удержаться. На нем была рубашка с короткими рукавами, и его грудь казалась еще уже, а брюки еще шире. Вдруг у него мелькнула мысль, что барон, наверное, ранил его, может, даже серьезно. Возможно, он выстрелил, сам того не сознавая, машинально. Сопрано не хотел мириться с мыслью, что потерял друга. Но на его лице читалось такое непонимание и такой горький упрек, что барону стало жаль его. Он решил снова привести все в порядок. Он решил успокоить его, приведя в порядок окружающий мир, и в то же время спасти приличия, спасти честь.
Он склонился над Сопрано, обыскал его и достал у него из кармана скатанные в трубку банкноты.
Он даже пошел дальше и стал, мусоля палец, пересчитывать деньги, пока не почувствовал, что Сопрано полностью успокоился.
И действительно, Сопрано, похоже, понял. Его лицо просветлело, на нем выступило подобие улыбки; бросив на барона восхищенный взгляд, он попытался было что-то ему сказать, но раскашлялся и лег на спину. Затем он подумал, что барон, эта старая бестия, наверное, ранил его не так серьезно, как он решил вначале, потому что он почти не ощущает боли. Ему захотелось свернуть себе сигаретку, но по непонятной причине он отказался от этой мысли. Спустя какое-то время боль стала еще меньше, а затем и вовсе прекратилась, и его глаза стали как нельзя более спокойными.
Тогда барон повел себя весьма занятно.
Повернувшись спиной к телу, он быстро задвигал ногами, как это делают коты и собаки, когда стараются забросать песком или землей свои интимные следы. Затем он вышел на дорогу и принялся ждать. Влюбленная пара была в сотне метров от него. Когда они с ним поравнялись, барон обнажил голову и поприветствовал их. Он их поприветствовал, прижав котелок к сердцу и склонившись в глубоком поклоне, — в своем жилете, с усиками и пунцовым лицом, он походил на провинциального тенора, тщательно выводящего сентиментальную арию. Он склонился в таком глубоком поклоне на пути королевского кортежа, что чуть было не упал, и ему пришлось ухватиться за дерево, — и Энн сразу узнала этого денди и улыбнулась ему, и барон, прежде чем вновь вступить в борьбу за достоинство, еще какое-то время постоял, сняв шляпу перед сувереном. Затем он вернулся туда, откуда пришел. Он уступил противнику очко, но оно единственное, которым тот может похвалиться. Нужно было возобновлять борьбу и продолжать свой неизменный номер с кремовыми тортами, этими падучими звездами человеческого горизонта.
Он все-таки ощупал свой карман, дабы убедиться, что деньги по-прежнему там.
И возможно, это в конечном счете всего лишь клятва пьяницы, еще подумалось ему.
Быть может, он так и не сумеет до конца изображать свое презрение к суровому закону, наложенному на нас. Быть может, он так никогда и не сумеет полностью укрыться в бурлеске и абсурде, по-прежнему не давая выиграть у себя или победить себя какому-нибудь демону человечности. Быть может, он так и не сумеет до конца оставаться безупречным денди, и ему нужно будет вечно опускаться до какой-нибудь грязной земной работы во имя любви.
Он взял мешавшие ему скатанные в трубочку деньги, разделил их на две части и тщательно спрятал каждую половину в отдельный карман.
Очень трудно оставаться достойным, подумал он, вынимая монокль из жилета и вставляя его в правый глаз.
Но он был полон решимости стараться изо всех сил.
Так что спустя примерно полчаса барон весьма замечательным образом объявился на дороге, ведущей в Ментону.
Ребятня, очевидно, зло подшутила над ними, с жестокостью, которую, как известно, дети проявляют к пьяницам, — потому что он появился верхом на осле, сидя задом наперед и держа в руках хвост этого животного.
Впрочем, он вновь обрел все свое достоинство.
V
Все так же дул мистраль, долины просматривались до самого дна, где бурный поток пронизывался белыми вспышками, издалека говорившими о первых вешних водах вокруг камней; с порывами ветра с террас до вас долетали благоухающие ароматы, и вы шли в липнувшей из-за ветра к телу одежде и с морем на губах. Слегка запыхавшись, они спустились в Босолей к Паскалю, но у Паскаля стоял шум от жарившейся на кухне пищи и царила атмосфера паники, сопровождавшей главное событие — появление из духовки провансальской пиццы; Паскаль вынырнул из разбушевавшихся стихий, чтобы переброситься с ними парой слов, — весь белый и круглый в колпаке и с салфеткой вокруг своих подбородков, — и запросто заговорил с ними, помогая себе жестами и акцентом: ничто не действует на вас так успокаивающе, как средиземноморский повар. А закончив есть, они снова подозвали его и какое-то время не отпускали от себя, как будто он мог тут что-то сделать; они постарались как можно дольше не отпускать его от себя, и Паскаль разглагольствовал долго, с воодушевлением рассказывая им о розовом вине, и равиоли, и о чесноке; он поведал им всю правду о чесночном соусе и местном вине, честно, положа руку на сердце, часто конфиденциально понижая голос и оглядываясь, потому что он говорил это не для всех, а затем он умолк и взглянул на Ренье, который внезапно вспомнил, что Паскаль коммунист и что он знает, знает, куда отправляется его друг и почему; вот он тут перед ним со своими тремя видимыми подбородками и салфеткой вокруг остальных, весь круглый и небритый и неожиданно молчаливый, — они были в одном отряде в 1944 году, — и они, ни слова не говоря, пожали друг другу руки, быть может, в последний раз.
Мы вышли.
Ты сказала: он милый, этот Паскаль, и я сказал «да», и он почувствовал себя больным, и это даже было не из-за нее.
Мы отправились выпить кофе на террасе «Канеппа», — Энн позднее узнала, что оттуда открывается великолепный вид на старый город и порт и что это одно из тех мест в Монако, куда надо сходить.
Когда я буду покидать тебя в следующий раз, когда ты будешь уезжать в очередной раз: в Испанию ли, или в Абиссинию, или в Китай, или в Грецию, или чтобы освобождать луну, — когда мы будем расставаться в следующий раз, нужно будет сделать это в Париже, в метро, в толчее и сутолоке, у нас не будет времени заметить это, мы выйдем на станции «Шатле», вот и все.
Потом мы сели в автобус, направлявшийся в Ментону: он еще утром велел одному из Эмберов отнести свой чемодан на вокзал.