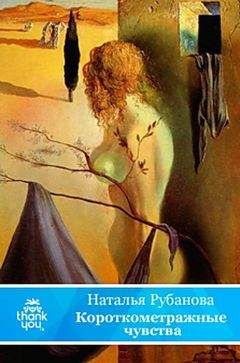А ничего не делать: не виноват никто. Все уже было, Онанчик, ха-ха.
Легче всего это, конечно, у консерватории — «под Чайником», как называют П.И. студенты (вызывающие у него неизбежную тошнотворную зависть), по щучьему веленью дам-скульпторш раскинувшего руки, намекающие на вдохновение: 1954-й, «лучшая работа тов. Мухиной». Они-то, руки-птицы, и символизировали якобы творческий экстаз, горение и все то, чем морочат детенышей на музлитературе седеющие экс-музыкантки, пахнущие мылом «Duru» и не бреющие подмышек. Нет-нет, можно, конечно, дойти до Гнесинки — тут недалеко… Или, скажем, до «Маяковской», постоять у зала имени все того же П.И… Или, на худой конец, доехать до Краснохолмской, где не так давно отстроенный Дом еще не пропитался музыкой, а уж о портретах-то, о портретах в фойе и говорить нечего — маляр от слова «худо», и не спорьте…
В общем, чаще всего приходил он сюда, на улицу Герцена (так и называл ее по старинке): сворачивал, например, со Спиридоновки на Малую Н., переходил дорогу, оказывался на Большой Н. Или, скажем, шел по Волхонке — Большой Знаменский, Калашный, Никитская. А если с Воздвиженки… Да мало ли! Идти он мог откуда угодно (Арбат, Тверская, Охотный: пуп земли, центр мира) — суть не менялась: метров за триста до консерватории («конса», «консерва» — все те же студенты) дыхание его слегка учащалось, пальцы деревенели, а обычно плотно сжатые губы странным образом размягчались. И, завидев сначала либо кафе, либо церковь (смотря с какой стороны подходить), он замедлял шаг, одергивал полы фантомного фрака и с видом знатока разглядывал афиши Большого, Малого и Рахманиновского: «Вечер фортепианной музыки», «Кафедра сочинения представляет…»
Так-так, воздух. Втянуть по возможности глубже. Еще. Не оглядываться. Кому какое дело… В сущности-то! Он же не просит милостыню. Не бомж. От него не пахнет — ну, разве что коньяком, но это слегка, надо принюхиваться: всего-то сто, шкалик. Гладко выбрит. Что там еще. Неплохо одет. (Подробности для дам: эта вот куртка и вельветовые брюки куплены в секонд-хэнде месяц назад — они с Ж., экс, оказались по делам на Южнопортовой. Ж. по привычке вытянула указательный пальчик — матовый лак на длинном коготке, казалось, старательно символизировал ее лучшую, хм, долю: «Зайдем, я прошу». И: «Примерь. Новый завоз — где ты еще купишь за такие смешные деньги? Я действительно прошу… Мы же друзья…» Когда очень просили, отказать он чаще всего не мог — не слабость, но, так скажем, врожденная «интеллигентская» (разумеется, «вшивая») привычка не доставлять неудобств другому. A bach — всего-то утерянная способность растворяться в звуках. Тема его креста, си-бемоль — ля — до — си. Формула несчастья.)
Так-так, со скрипкой… Пошла-шла-шла… Учится? Поступает? Абонементы Малого зала: № 21 — Вечера камерной музыки. Нет-нет, он и так в камере; с недавних пор шесть букв в подобной комбинации его пугают, хотя все эти квартеты… Особенно Д. Д. Одиннадцатый, f-moll'ный, сыгранный, так скажем, друзьями — странное слово, так он теперь считает, но: скрипки, альт, виолончель… Семь частей без перерыва, а также намечающаяся лысина Вадима, поднятые брови Инги, второй подбородок Андрея — и капельки пота на мраморном лбу Риты, а в них, в капельках, будто б в зеркале, «шведская» их — снова не его, чужая — семья: балетные, куда ему, неудачнику, до длинноногой дивы и поджарого мачо с претензией на «настоящий талант»! К тому же (говорят, помогает сохранить свежесть отношений) почти не видятся — репетиции, гастроли: сцена, черт бы ее подрал, ему-то рампа давно не светит… Запретный эрос в перерывах между станками: и если он не завидует и уже не ревнует, то что, что?.. Искусство для искусных, псевдоэксклюзив утомленной седеющей девочки со смеющимися глазищами: дипломантки, лауреатки — что там еще? — да герцогини, наверное… Да, именно так: герцогини. А вот и афиша, как сразу не?.. Маргарита Верхейнгольдская с ля-минорным Мендельсона: в прошлой жизни, в двадцатом, аккомпанировал ей — впрочем, был ли двадцатый на самом деле, он не уверен, нет, не уверен: то же самое относится и к «прошлой жизни», и к ее solo: скрипка-прима, звезда курса, прищур консерватории, «гроза конкурсов»… А он? Влюбленный дурак, живущий от репетиции с Ней до репетиции с Ней, экс-вундеркинд, чудоюдистый киндер, аутсайдер: «Итальянский концерт» Баха в первом классе — в сущности, пустяк, но если на первом курсе ты видишь в том же концерте лишь ноты и исполнение твое, предельно выверенное, напоминает скорее неплохо сконструированную задачку по гармонии, то…
«За что, зачем эта головоломка? Зачем Черная Курица спрятала волшебное зернышко, оставив Алешу в камере?» — «И до чего ж мальчишка оказался скучен!»
Техника умирания. Бессмысленность. Король Ганона! «Как жить, Господин Б.? Не играть невозможно. Впрочем, больше ничего не умею… Учитель музыки? Три буквы: ДМШ? Мечта зевающих педагогинь, любопытствующие взгляды мамаш?.. Или: студенты „музилищ“ и „кульков“, для которых, по большому счету, музыка никогда не стояла на первом месте — есть, есть исключения, но…» Нет-нет, он никогда не будет преподавать, никогда. Он не сможет, его стошнит прямо на клавиатуру — да и какой он, к чертям, педагог! Вот его учитель… Он-то всегда будет помнить Равиля Самуиловича, обладавшего не только фантастической техникой, но и каким-то феноменальным даром оживления звука. В училище на его концерты приходили даже духовики: особая, хм, статья… да что говорить!
В училище, впрочем, он еще дышал. В консерватории же произошло что-то невероятное: он до сих пор не может объяснить этого даже себе: музыка, само ее вещество, стала словно бы испаряться. Проскальзывать между пальцами, исчезать… Ам! — ан нет, дырка от бублика, страх.
Прослушивание записей не вызывало ничего, кроме зависти и стыда. Осознание собственной бездарности — о, всего лишь начало: это потом началось самоедство (по-средственность), боязнь притронуться к черно-белой пасти зверя, отторжение медленных частей сонат, затем — романтиков, а потом и всего того, что слащаво называется «душой музыки»: лексикон дам с брошами под наглухо застегнутыми белыми воротничками…
На третьем курсе он забрал документы и, как водится, месяц-другой пил, а потом — как придется: охранник, грузчик, опять и снова… Дальше совсем тошно.
…и опять со скрипкой, топ-топ, и тоже к Рахманиновскому сворачивает — ну да. И снова, и снова: худенькая, тощая даже. Вьюноши с длинными волосами, все в джинсах. Он-то никогда не приходил в храм в джинсах, нет-нет. Абонемент № 36 — Чудо-дети. Опять вундеркинды. Руки-птицы, мать их! Он и сам «Думку» в четырнадцать осилил; вторая премия ***-го конкурса, Прибалтика — первая в жизни «заграница», сосны, волны, Сибелиус, первый невинный поцелуй с чертёнком по имени Рита. «Творческий экстаз». «Горение», хм, — а ведь все залито музыкой, бояться нечего…
«Петр Ильич Чайковский хотел выразить в этом произведении…» — «Петр Ильич Чайковский боялся мышей и любил качественный алкоголь» — «Что ты хочешь этим сказать?» — «Только то, что когда он не сочинял, он не жил» — «Так и я не живу, когда не играю…» — «Но ты не Чайковский»: первый надрыв, первое ощущение собственной ничтожности, первый гвоздь в то, что называется мечтой. Концерт учащихся Академического музыкального училища при Московской консерватории… Господи, сколько лет! Их выпуск…
Моховая, Тверская, Романов, Никитский, Газетный, Брюсов, Вознесенский, Калашный, Кисловские, Мерзляковский… Бежа-а-а-ать!..
Всё уже было: одиннадцать люстр Большого зала освещали для тебя сцену. Из четырнадцати окон опрокидывалось на тебя солнце. Четырнадцать портретов смотрели на тебя, чего ж ты хочешь!..
«„Ундина“ показалась, да, а вот „Скарбо“ сыроват…» — «…а мы играли тогда Второй Брамса, и я…» — «Он-то Высшую школу музыки в Ганновере окончил, теперь вернулся, а зал не дают…» — «…ну вот, а Витька после концерта напился, Лика обошлась парой пощечин — у нее же репетиция в среду, ну да, с оркестром, а этот накануне устроил та-а-а-ко-о-ое…» — «Нет, это, конечно, не Бах. Баха так давно никто. Не понимаю, зачем ему понадобилась редакция Муджеллини…» — да, подслушивает. Да, их всех. Звукомеченных. Что с того? А ничего не делать: не виноват никто. Всё уже было: стой, слушай!
Вот, собственно, все: так он думает. Так он и сделает, да, — а почему нет? Можно же не врать хотя бы себе. И правда — все: подслушивания прослушиваний. Страх увидеть Риту не на сцене. Очередь за билетами на ее концерты. Его беспомощность. Потерянная форма. Форма охранника: сутки через двое, жалкие пятьсот у.е. В выходные еще ху-у-у…