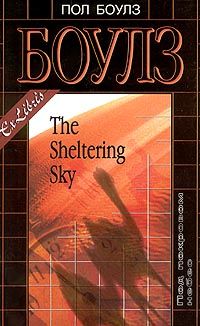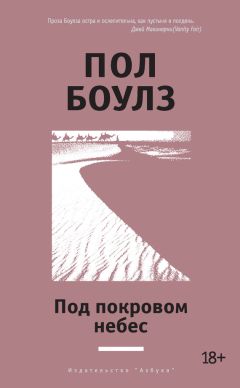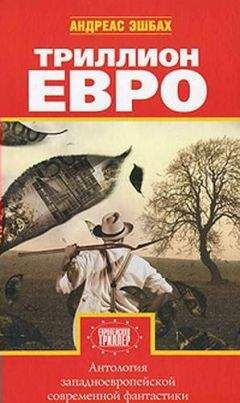В этот момент старуха услышала на лестнице чьи-то шаги. В ужасе, что это возвращается Белькассим, который непременно накажет ее за то, что она сунулась не в свое дело, она выронила плеть и повернулась к двери. Та открылась, и три жены Белькассима вошли друг за дружкой в комнату большими шагами, слегка пригнув головы, чтобы не задеть потолок. Не обращая внимания на старуху, они толпой устремились к матрасу и бросились на распростертое тело Кит, одним рывком срывая с ее головы тюрбан и раздирая одежду, так что в мановение ока ее торс оказался полностью обнажен. Нападение было настолько внезапным и бешеным, что на все про все ушли считанные секунды; Кит не успела даже сообразить, что происходит. Потом она почувствовала, как по ее груди хлестнула плеть. Пронзительно закричав, она подскочила и вцепилась в голову, которая маячила перед ней. Ее стиснутые пальцы ощутили волосы и мягкие черты лица. Что было мочи она потащила все это вниз и попыталась разорвать в клочья, но голова не поддавалась; она просто стала мокрой. Плеть оставляла жгучие полосы на ее плечах и спине. Теперь кричал кто-то еще, уже хором вопили визгливые голоса. На лицо ей давила вся тяжесть чьего-то тела. Она вгрызлась в мягкую плоть. «Слава Богу, у меня хорошие зубы», — подумала она и увидела перед собой отпечатанные слова этой фразы, когда, сжав челюсти, почувствовала, как ее зубы погружаются в груду плоти. Ощущение было восхитительным. Она попробовала на язык теплую соленую кровь, и боль от ударов уменьшилась. В комнате было полно людей; в ней царила сумятица, в которой смешались визг и всхлипы. Этот кавардак перекрыл разъяренно прокричавший что-то голос Белькассима. Зная теперь, что он здесь, она ослабила хватку своих зубов и получила чудовищный удар в лицо. Звуки поспешно затихли, и какое-то время она находилась в темноте одна, думая, что напевает песенку, которую часто пел ей Белькассим.
А может, это был его голос, может, это он пел, а она лежала, положив голову ему на колени, вытянув руки к его лицу, чтобы приблизить его к своему? Прошла ли одна спокойная ночь, или несколько, прежде чем она очутилась в просторном помещении, освещенном множеством свечей, где сидела, по-турецки скрестив ноги, в расшитом золотом облачении, окруженная всеми этими женщинами с угрюмыми лицами? Как долго они еще будут без устали наполнять ее стакан чаем, пока она сидит здесь с ними совсем одна? Но и Белькассим был здесь; он был грозен как туча. Она следила за ним: застывший как изваяние, медленно, точно во сне, он снимал украшения с шей трех жен, поворачиваясь, чтобы осторожно положить их ей на колени. Золотая парча под тяжестью металла тянула вниз. Она уставилась на сверкающие драгоценности, потом на жен, но те продолжали смотреть в пол, наотрез отказываясь поднимать глаза. Под балконом во дворе неотступно нарастал гул мужских голосов, качалась музыка, и все женщины вокруг нее пронзительно загорланили в ее честь. Но даже когда Белькассим сидел перед ней, застегивая драгоценности у нее на шее и на груди, она знала, что все женщины ненавидят ее и что он не сможет оградить ее от их ненависти. Сегодня он наказал своих жен, взяв другую женщину и унизив их у нее на глазах, но остальные мрачные женские лица вокруг нее, даже высовывающиеся с балкона рабыни, начиная с этого момента будут ждать, чтобы упиться ее падением.
Когда Белькассим дал ей лепешку, она разрыдалась и поперхнулась, обрызгав его лицо крошками. «G igherdh ish 'ed our illi», — снова и снова пели внизу музыканты, меж тем как ритм барабана поменялся, медленно сужаясь, чтобы образовать круг, из которого ей будет не вырваться. Белькассим смотрел на нее со смешанным чувством озабоченности и отвращения. Посреди рыданий она закашлялась. Краска ручьями текла у нее по лицу, слезы замочили свадебное одеяние. Мужчины, что смеются во дворе внизу, ее не спасут, Белькассим ее не спасет. Уже сейчас он злился на нее. Она закрыла лицо руками и почувствовала, как он стиснул ей кисти. Он что-то шепотом говорил ей, и непостижимые слова производили свистящие звуки. В ярости он отвел ее руки, и голова ее упала на грудь. Он оставит ее на час одну, а эти трое будут ждать. Они уже думали в унисон; она могла проследить направление их мстительных мыслей, пока они сидели здесь напротив нее, отказываясь поднять глаза. Она закричала и попыталась встать на ноги, но Белькассим свирепо толкнул ее обратно. Огромная чернокожая женщина проковыляла через комнату и уселась на нее, обхватив ее своей массивной ручищей и вдавив в гору диванных подушек на другом конце. Она увидела, как Белькассим уходит из комнаты; она тут же расстегнула все ожерелья и брошки, которые смогла расстегнуть; негритянка ничего не заметила. Когда несколько драгоценностей оказались у нее на коленях, она кинула их сидевшей напротив троице. Остальные находившиеся в комнате женщины истошно завопили; рабыня бегом кинулась на поиски Белькассима. Не прошло и минуты, как он вернулся с потемневшим от гнева лицом. Никто не притронулся к драгоценностям, которые все еще лежали у ног трех жен на ковре. («G igherdh ish 'ed our illi », — печально и настойчиво повторяла песня.) Она увидела, как он нагнулся, чтобы их поднять, и почувствовала, как они обожгли ей лицо и скатились вниз по ее одежде.
У нее была рассечена губа; вид крови на пальце заворожил ее, и на протяжении долгого времени она сидела спокойно, не сознавая ничего, кроме музыки. Сидеть спокойно казалось лучшим способом избежать новой боли. Если боль все равно неизбежна, то единственный способ жить — это найти средство не подпускать ее как можно дольше. Никто не причинит ей вреда, пока она сидит тихо. Толстые черные руки женщины вновь увешали ее ожерельями и амулетами. Кто-то передал ей стакан очень горячего чая, кто-то поднес тарелку с лепешками. Музыка длилась, женщины регулярно подкрепляли ее каденции своими йодлеподобными подвываниями. Свечи оплавились, многие из них погасли, и в комнате постепенно стало темнеть. Она задремала, прислонившись к негритянке.
Много позже, в темноте она взошла по четырем ступенькам на громадную, закрытую пологом кровать, вдыхая аромат гвоздики, которой были надушены занавеси, и слыша у себя за спиной тяжелое дыхание Белькассима, пока он вел ее туда за руку. Теперь, когда она принадлежала ему полностью, в его обращении появилась новая свирепость, своего рода остервенелая необузданность. Кровать была бушующим морем, она лежала во власти его неистовства и хаоса все то время, пока тяжелые волны обрушивались на нее сверху. Почему же тогда, в разгар бури, две тонущие руки все крепче и крепче сжимались у нее на горле? Сжимались до тех пор, пока и сам гигантский сумрачный рокот моря не перекрыл еще более дикий, более зловещий шум — рев ничто, какой слышит дух, когда приближается к бездне и заглядывает в нее.
Позднее она лежала в сладкой ночной тишине, бесшумно дыша, пока он спал. Следующий день она провела в объятьях постели, с задернутым пологом. Это было все равно что находиться внутри огромной коробки. Наутро Белькассим оделся и ушел; толстуха, приставленная к ней с прошлого вечера, заперла за ним засов и села на пол, привалившись к двери. Каждый раз, когда слуги приносили еду, питье или воду для омовений, женщина с невероятной медлительностью, пыхтя и кряхтя, вставала отворять громоздкую дверь.
Пища вызвала у нее отвращение: она плавала в густом сале и была рыхлой, совсем не такой, какую она ела в своей комнате на крыше. Некоторые блюда показались состоящими в основном из комков жира полусырой баранины. Она едва прикоснулась к еде и заметила, как слуги неодобрительно посмотрели на нее, когда пришли забирать подносы. Зная, что в данную минуту ей ничего не грозит, она ощутила почти умиротворенность. Она велела принести свой саквояж и, уединившись в постели, поставила его себе на колени и открыла проверить содержимое. Она машинально воспользовалась пудреницей, губной помадой и духами; на кровать выпали сложенные тысячефранковые купюры. Она долго с недоумением смотрела на остальные вещи: белые носовые платки, блестящие щипчики для ногтей, желто-коричневую шелковую пижаму, баночки с кремом для лица. Затем рассеянно потрогала их руками; они были как завораживающие и таинственные предметы, оставленные исчезнувшей цивилизацией. Каждый из них, почувствовала она, является символом чего-то забытого. Ее даже не расстроило, когда она поняла, что не может вспомнить их назначение. Она сложила тысячефранковые купюры в пачку и положила на дно сумки, упаковала все остальное сверху и защелкнула саквояж.
В тот вечер Белькассим поужинал с ней, заставив проглотить жирную пищу после того, как красноречивыми жестами дал ей понять, что ее худоба малоаппетитна. Она взбунтовалась; ее тошнило от этой дряни. Но, как всегда, невозможно было не подчиниться его приказанию. Тогда она ее съела, как съела и на другой день, и ела все последующие дни. Она привыкла к ней и больше уже не ставила под сомнение. Дни и ночи перепутались у нее в голове, потому что иногда Белькассим приходил в кровать в полдень и покидал ее с наступлением сумерек, возвращаясь в полночь в сопровождении слуги, который нес подносы с едой. А она оставалась в комнате, где не было окон, обычно прямо в постели, лежа в ворохе разбросанных белых подушек, с полной пустотой в голове, если не считать воспоминаний или предвкушения близости с Белькассимом. Когда он поднимался по ступенькам на ложе, раздвигал полог, входил и ложился возле нее с тем, чтобы начать медленный ритуал освобождения ее от одежды, тогда часы, которые она проводила ничего не делая, обретали свой полный смысл. А когда он уходил, приятное состояние изнеможения и удовлетворенности еще долго не оставляло ее; она лежала в полудреме, купаясь в ауре бездумного блаженства — состояния, которое она быстро привыкла принимать как должное, чтобы потом, подобно наркотику, обнаружить, что она без него уже не может.