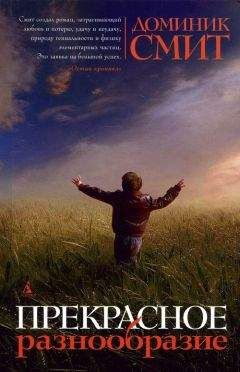— Думаешь, он слышит?
— Конечно слышит. Скажи что-нибудь.
— Ну, я не знаю… — ответил он чуть дрогнувшим голосом.
Его слова отдавали спиртным.
— Давай-давай! — подбодрил его я и поставил перед ним микрофон.
— Кей-си-два-ди-джей-эль вызывает Сэмюэля Нельсона, прием! — произнес Уит.
Молчание. Радиоволны несутся к куполу небес, к основе мироздания величиной с булавочную головку. Уит пододвинул микрофон, так что тот оказался у него чуть ли не во рту, и продолжил:
— Надеюсь, у тебя там все в порядке! Передай привет космическому планктону!
Он помолчал, усмехнулся и посмотрел на стену, словно отыскивая там что-нибудь более значимое.
— Скажи ему, что ты заботишься о маме, — предложил я.
— Что ты говоришь?
— Ты слышал, что я говорю.
Уит сглотнул и наклонился к микрофону:
— Слышь, Сэм, у нас тут все хорошо. За домом я слежу. Смотрю, чтобы он на части не развалился.
— Отлично, — сказал я. — А теперь можешь попрощаться.
— Ну пока, что ли, Сэм, — сказал Уит.
После этого он уселся так, как сидят астронавты в своих космических креслах: выпрямил спину, и лицо его приняло выражение готовности ко всему — и к встрече с неизведанным, и к катастрофе.
Из радиоприемника донесся целый шквал белого шума. Я не отрывал глаз от Уита. Он сидел с каменным лицом и крутил ручку настройки.
Я взял у него микрофон и сказал:
— Алло! Я подозреваю, что Уит и мама любят друг друга.
Уит потянулся к бутылке с джином.
Я наклонился еще ближе к микрофону и сказал:
— Папа, над этим домом тяготеет какое-то заклятие. И это заклятие — намять о тебе. Только не пойми меня превратно. Скорее всего, тебе, вообще-то, все равно, что мы тут делаем. Это только мы не даем себе воли. Я всю жизнь боялся тебя разочаровать. Оказалось, что можно потерпеть поражение, даже если ничего не делаешь.
Я поставил микрофон на самый край стола, ровно посредине между собой и Уитом, и спросил:
— Ты ведь влюблен в маму, да?
Он поморщился, проглатывая джин, и пошевелил бровями, потом поднял руки, словно я целился в него из револьвера, и сказал:
— Подтверждаю.
— Я только что рассказал об этом отцу.
— Ну да, я слышал.
— Я нашел в его кабинете письмо. Он хотел бы, чтобы его прах был развеян. А мама никогда не полюбит тебя, пока его прах находится в доме. Я говорю про урну.
Уит поудобнее надел тапочки.
— И где мы должны его развеять? — спросил он шепотом, может быть сам того не желая.
— Возле Ускорителя в Стэнфорде, — ответил я. — Там, в горах, позади туннеля.
Уит посмотрел на меня задумчиво.
— Твою маму придется долго уговаривать, — сказал он.
— Предоставь это мне, — ответил я.
Из приемника вдруг вырвался поток человеческой речи. Я вздрогнул, испугавшись, что это отец отвечает нам с того света. Однако голос говорил что-то невнятное. Мы с Уитом наклонились поближе. Наконец стало ясно: это было полицейское радио. Диспетчер заверял выехавшего на патрулирование офицера, что к нему на помощь уже направлено вооруженное подкрепление. Потом последовала пауза, и другой голос сказал:
— Я не собираюсь здесь больше ждать.
В этом подслушанном разговоре как бы случайно сверкнула правда.
Следующим вечером я пригласил маму поужинать в ресторане. Она предчувствовала неприятный разговор и потому оделась построже: серая юбка, пурпурный шарф, волосы заколоты сзади в «улитку». Мы сели за столик, отделенный от соседних небольшими перегородками, и мама принялась изучать меню так тщательно, словно это контракт на покупку дома, который ей сегодня же предстояло подписать. Стены в зале были выложены мозаикой и цветными изразцами самых ярких средиземноморских расцветок. Я специально выбрал этот ресторан, чтобы у мамы на душе стало полегче, ведь ее всегда тянуло к Италии с ее терракотой и прочими милыми штучками. Однако я просчитался: в этом месте маму все раздражало, начиная с цен и самих блюд и заканчивая похожим на остров жирным пятном на фартуке официанта. Я сложил руки на столе, оперся о них подбородком и посмотрел на маму.
— Что ты делаешь? — спросила она, стараясь сдержать гнев.
— Мне кажется, тебе вообще не нравится бывать в ресторанах.
— Потому что они всегда что-нибудь сделают не так, — сказала она, глядя на свою «пасту-примаверу».
Я отпил немного вина. Чуть раньше, когда я заказывал это красное домашнее вино, мама посмотрела на меня так, как мог бы посмотреть никогда не пьющий мормон. Она намазала немного масла на булочку.
— Я хотел бы развеять прах отца возле Стэнфордского ускорителя, — произнес я наконец.
Мама держала вилку с намотанной на нее пастой на расстоянии дюйма от тарелки. В этот момент вся Вселенная сосредоточилась для меня в промежутке между этим кусочком теста и ее ртом. Я придвинулся чуть ближе к столу.
— Господи, да зачем? — изумилась она.
— Потому что он так пожелал.
Мама сложила салфетку, потом расправила ее.
— Он никогда не знал, чего хотел.
— Он не хотел, чтобы его прах хранили в доме, — сказал я. — Мне кажется, он вообще был не из тех, кто цепляется за прошлое.
Мама принялась за еду, чтобы выиграть время и подумать, а потом вдруг спросила:
— А кто сказал, что тут все решает его воля?
Я промолчал в замешательстве.
— Этот прах сохраняется в доме для меня, а не для него, — продолжала она.
Голос у нее был самым обычным, ничуть не извиняющимся. Она как бы утверждала свои права вдовы.
— Я нашел написанное им письмо, — сказал я и выложил его перед мамой, чувствуя себя немного шантажистом.
Она взяла бумагу двумя пальцами, развернула и стала читать, сохраняя гордое выражение лица. Однако пару раз у нее чуть дрогнул подбородок.
— Где ты это нашел? — спросила она наконец, не глядя на меня.
— У него в кабинете.
Она еще раз перечитала письмо, словно стараясь запомнить его наизусть.
— Почему же он не оставил его в своих бумагах?
— Наверное, постеснялся. Он ведь всегда говорил, что не верит в Бога, а здесь исповедуется ему, выворачивая душу наизнанку. Мама, это ненормально, что он смотрит на нас с каминной полки. Это надо прекратить. Его и при жизни не очень волновало происходящее в этом доме. И уж тем более не волнует сейчас.
Последние слова прозвучали гораздо резче, чем мне хотелось. Мама откинулась на спинку стула и сидела молча, видимо стараясь успокоиться. Подошел официант, чтобы подлить нам воды.
— Нам надо начать новую жизнь, — сказал я.
— Нет, — ответила она, кладя салфетку на стол. — Все не так. Новая жизнь уже началась для меня после его смерти.
— Послушай, мама, ты же закрыла доступ в гостиную, навесив на двери желтую ленту. Такими лентами ограждают место, где произошел несчастный случай.
— Только ты один не можешь смириться со случившимся.
Я крутил в руках стакан воды. Мама расправляла складки на скатерти. Я мысленно посчитал до десяти и сказал:
— Уит любит тебя.
Она поморщилась и объявила, глядя мне прямо в глаза:
— Чепуха!
— Любит и всегда любил. Я теперь понимаю, почему он все время крутился у нас, когда я был маленьким. Это не из-за дружбы с отцом, это из-за тебя. Почему ты его прямо не спросишь?
— Он наш друг. Он помогает мне управляться с домом. И потом, мне надо для кого-то готовить. И получается, что мы помогаем друг другу по взаимной договоренности.
— Он влюблен в тебя по уши.
Она мотнула головой:
— Глупости!
— Он там у себя в подвале беседует по радио с русскими и филиппинцами. Отжимается перед сном. У него вся жизнь — один сплошной холодный душ.
— Ну все, хватит!
— Ты просто не хочешь посмотреть правде в глаза. — Я посмотрел на ее руку, по-прежнему украшенную тонким золотым ободком обручального кольца. — Ты замужем за призраком! Он и при жизни почти все время был призраком, хотя и жил с нами. Но у него, по крайней мере, была своя жизнь, были цели!
Она резко отодвинула тарелку, показывая, что не желает больше разговаривать, и жестом попросила официанта принести счет. Затем выписала чек, аккуратно вырвала его из чековой книжки и переписала сумму себе в блокнот на память. Она всегда это делала, чтобы помнить, сколько у нее осталось средств, и не оказаться вдруг без копейки.
Мы договорились о дне, когда будет развеян прах. Я позвал участвовать в этом Тоби и Терезу, и они должны были встретить нас в Калифорнии. Уит заплатил за авиабилеты, сказав, что это его подарок нашей семье. Он же договорился с руководством Стэнфордского ускорителя и склеил для перевозки останков небольшую коробку из сосновых дощечек, соединенных «ласточкиным хвостом». Я пересыпал туда содержимое урны и завернул все в пузырчатую упаковочную пленку. Когда мы летели в Сан-Франциско, мама держала коробку на коленях и отвечала отказом стюардессам, предлагавшим напитки и орешки. Я смотрел на нее и думал: вот моя мама, она держит его тело, и значит, он присутствует среди нас. Более того, его можно удерживать с нами рядом, что было совершенно невозможно, когда он был жив. Нет ничего удивительного в том, что она так неохотно согласилась с его волей — развеять прах.