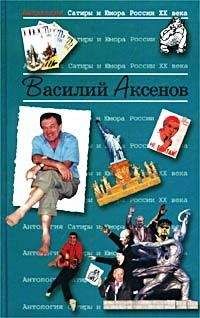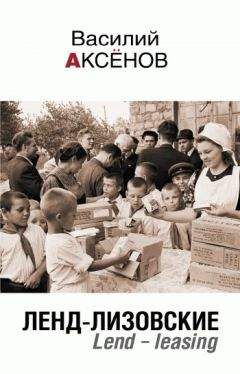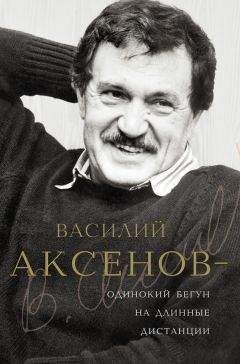Но вот я представляю себе встречу с моим ближайшим нынешним родственником — мой дядя, брат отца, строитель гидростанций в отставке, великолепный советский сатирик, политический человек. По утрам он читает «Правду» и «Новое время», и не просто читает, но красным карандашом обводит какие-то не-доступные простому народу мудрости, засим внимает записным телевралям из «9-й студии», к вечеру вожделенно настраивается на «вражеские», как он их называет, голоса, с наушником в ухе, с лицом то задумчивым, то лукавым, а то и с жестикуляцией, вздымание указательного, предположим, пальца или негативное им помахивание, «нет, уж, позвольте, господа», от «Немецкой волны» через Би Би Си к «Программе для полуночников». Свободное время все посвящено выводам, умозаключениям, гипотезам, теориям, никаких кризисов вегетативной нервной системы.
В 37-м, после ареста и расстрела моего отца, крупнейшего деятеля социндустрии, дядю тоже замели, продержали, однако, за проволокой всего лишь три года. Тюремный опыт его, впрочем, мало коснулся, вернулся он каким и был, духовным здоровяком. Как он утешит меня, как поддержит в моем нынешнем распаде? Надо держаться, скажет он мне, будь таким, как твой отец, настоящим коммунистом, держись, Шаток! Вот так будет выглядеть «прана», которую он мне передаст в утешение. Может быть, не так уж мало…
Я держусь, я каждую минуту держусь. Хожу ведь, говорю с людьми, стою в очередях в магазинах, даже и работаю — то есть держусь каждую секунду. На тренировках я держусь изо всей мочи, стараюсь не взвыть, разыгрываю с ребятами различные игровые схемы и делаю все, что надо, хотя и думаю постоянно, во что сейчас превратился под землей наш общий любимец Серега, во что все они, такие красавцы, могут превратиться, случись какая-нибудь чудовищная мерзость. Я отгоняю от себя все эти пакости и держусь. Пакости возвращаются, и я их снова отгоняю и держусь, держусь, держусь… На пятнадцатом этаже, в своем жилом гиганте, если не лучше назвать его монстром, я каждую минуту ощущаю четырехугольник окна, меняющий цвет от голубого до черного, и держусь… Я знаю, что никогда этого не сделаю, но страх этого сжигает меня, и я держусь, держусь, держусь…
Валевич у телефона: вегетативка, климакс, переутомление — витамины, покой, транквилизаторы…
Дружище, может быть, это называется так, а может быть, и иначе, может быть, это называется «арзамасской тоской», как у Льва Николаевича, или, скажем, «утечкой очарования»?.. Должно быть, без очарования жизнью и жить нельзя. Любая хрюшка должна быть очарована жизнью, так или иначе. Что делать мне, если из меня вытекает прана. Все испаряется, даже тоска уходит вместе с другими человеческими очарованиями, оставляя на полу лишь только бессмысленное, подрагивающее от какого-то нижайшего страха тело?
Я лежал плашмя на ковре, когда в дверь позвонили. Разумеется, меня всего передернуло от этого неожиданного звука. Неожиданные звуки вызывают у меня сейчас что-то сродни короткой судороге. И не удивительно, объясняет мне всеобъясняющий Валевич, у тебя, старичок, переизбыток адреналина в крови, все нормально, нормально, вот подожди, подсохнут твои железы внутренней секреции и будет поспокойнее.
За дверью оказался тот юноша, что пытался ободрить меня на лестнице подземного перехода. Заглядывая в бумажку, он справился, верно ли попал, то ли я лицо, которое ему требовалось, и выходило так, что он не ошибся. Разумеется, он не идентифицировал меня внутриквартирного с тем подземным, он только лишь очень обрадовался, что поиски его окончились удачно, внес в прихожую небольшой чемодан и, сняв шапку, соломенноволосый и голубоглазый провинциал, оповестил меня, что привез привет из Самары.
Из Самары? Мучительно я пытался сообразить, откуда это. Он улыбнулся: ну, это просто так иногда по-старому они, самарцы, называют свой Куйбышев, город рабочей славы, ну, знаете, просто занятно, просто, понимаете ли, Самара — это как-то немножко экзотично, а Куйбышев, ну, ведь, это просто фамилия.
Без безобразной своей шапки-»меховушки» юноша выглядел довольно мило, длинные волосы его не висели более мочалкой, но даже как бы содержали некоторый намек на определенный стиль. Сняв неуклюжее пальто, он показался мне вообще каким-то скандинавом: джинсовая курточка, свитер-битловка, все как полагается. Я спросил его, не ошибся ли он адресом.
«Но ведь вы Шатковский, — переспросил он, — Олег Антонович, не так ли? Значит, я не ошибся. Я вам привез привет от моей бабушки, а она ваша родственница. Что касается меня лично, то меня зовут Женя, учусь в заочной аспирантуре МИФИ, приехал позондировать насчет защиты диссертации».
В Самаре, то есть в городе рабочей славы Куйбышеве, никогда не было у меня никаких бабушек в родственницах. Я пригласил Женю войти в комнату, пригласил его в кресло, даже предложил ему чаю и только после этого осторожно спросил, с какого боку его бабушка ко мне прилепляется.
«Ну, как же, — улыбнулся он, — она вам крестная сестра, Олег Антонович». Вот какой приятный сюрприз, подумал я, а ты все ноешь из-за недостатка родственников. Мальчик, кажется, собирается у меня остановиться. Явно собирается пожить у московского родственничка. Самарский мальчик приехал к столичному дяде. Впрочем, пожалуй, к деду — ведь это его бабушка мне крестная сестра…
«Как? Как вы назвали наши родственные отношения?» — только сейчас до меня стал доходить смысл слова «крестная». Вначале показалось что-то вроде «двоюродная», «троюродная», «седьмая вода на киселе». «Крестная сестра», — утвердительно кивнул Женя. «То есть, простите, Женя, вы хотите сказать, что бабушка ваша — сестра мне не по крови, а по крещению?»
Уцепившись за косяк двери, я смотрел, как он кивает, неуверенный и явно озабоченный, достаточное ли это родство, чтобы остановиться у меня на время своего диссертационного «зондажа». Сердце ходило у меня в груди, словно пароходный поршень.
В семье нашей, надо сказать, существовала когда-то некая легенда о моем крещении. Что-то рассказывала с двусмысленной улыбкой ленинградская тетя Марта, иногда и покойная мама как бы что-то припоминала.
В начале тридцатых годов мои родители представляли собой идеальную коммунистическую пару. Они называли друг друга по фамилии — «Ты ужинал, Шатковский?», «Ты обедала, Дальберг?» — и очень редко позволяли себе нежности, произнося с явной неловкостью: «Наталья», «Антон»… Он был директор индустриального гиганта, она — коммунистический лектор, партийный журналист.
Смутное, стыдливое и ненадежное предание гласило, что однажды носители пережитков прошлого, бабка и нянька, унесли идеальное комдитя, хозяина будущего, то есть меня, унесли куда-то. Якобы трехлетний бутуз сообщил потом маме, что был в «цирке», где «звоняют» и «моляются». Мама приступила к старухам с категорическим дознанием, на самом деле сама трепетала, как бы отец не узнал, что над его сокровищем совершен «унизительный обряд». Старухи в ответ только губы поджимали и гневно сверкали очами. Потом все это, разумеется, затерлось, замазалось, тема была молчаливо «снята с повестки дня» и старухи прощены, хотя осталось неизвестным, совершился ли этот обряд в действительности.
Потом пришел 37-й год, в первые три месяца этого года опустела наша большая квартира, после ареста родителей все комнаты были энкавэдэшниками опечатаны, за исключением одной, которую будущий хозяин лучезарного будущего некоторое время делил с пережитками прошлого, то есть с нянькой и бабкой.
В глухую ночь 42-го года, накануне, казалось бы, полного разгрома и неминуемого крушения нашей страны, моя бабушка провалилась в оборонную траншею, что за день до этого сама же и копала вместе с другими старухами по приказу управдома, хотя немцы были по крайней мере в двух тысячах километров от нашего города. Перелом шейки бедра, стремительно развивающаяся пневмония — и вот один из моих носителей пережитков прошлого отправился туда, где прошлое, настоящее и будущее сливаются в одну реку.
Дитятю, то есть меня, для поддержания жизни забрала к себе тетка в свою многодетную полуголодную семью. Нянька тоже в конечном счете не пропала, ее забрали какие-то неведомые мне родичи к себе в отдаленный заречный район.
Каждое воскресенье на рассвете старуха отправлялась из своего заречья в долгое пешеходно-трамвайное путешествие к единственной сохранившейся на весь большущий город церкви при Царском кладбище. На обратном же пути из церкви в слободу неизменно навещала она свою растущую и очевидно любимую из последних душевных сил дитятю, то есть меня, которая, дитятя, уже играла в футбол на голодный желудок, уже и девочек высматривала среди пыльных военных закатов. Нянька садилась обычно у печки и терпеливо ждала, авось, забежит в квартиру дитятя, чтобы вручить обязательный свой гостинец в тряпочке: или колотого сахару несколько кусочков, или две-три карамели-подушечки.