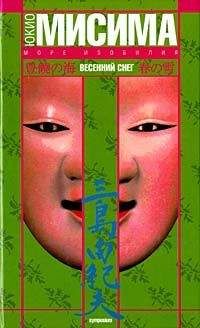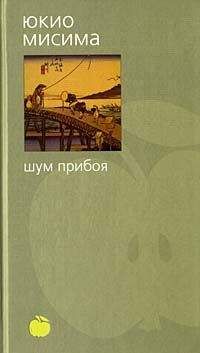Ознакомительная версия.
Наши отношения с идеей строятся на совсем иной основе: к идее мы карабкаемся по лестнице из слов, можем подобраться к ней вплотную, пялиться на нее, даже ослепнуть от ее сияния, да только она на нас в ответ глядеть не станет. В мире же, где твой взгляд моментально сталкивается с ответным взглядом, для разглагольствований места и времени нет. Болтающий остается за пределами арены. Это означает, что на него никто не смотрит, благодаря чему у него и появляется возможность предаваться самовыражению — не спеша наблюдать и играть словами. Зато такому зрителю никогда не удастся постичь суть реальности, отвечающей на взгляд взглядом.
По ту сторону удара и выпада, в пустоте, на меня смотрели глаза противника, и в них я читал главный смысл осязаемого мира. Идея не способна впиваться взглядом, это могут делать лишь существа и предметы, принадлежащие объективной реальности. За пределами художественного выражения, создающего некий поддельный предмет (литературное произведение), просматриваются смутные очертания идеи; за пределами действия, создающего поддельное пространство (к примеру, противника), просматриваются смутные очертания предметного мира. Человеку действия не нужно воображение, чтобы в силуэте этого мира увидеть фигуру смерти, похожую на черного быка, что мчится навстречу тореадору.
Я не мог в это поверить до тех пор, пока сам не увидел предметный мир, возникший где-то на самом краю моего сознания. Я давно догадывался, что сознание обладает только одним физическим подтверждением — болью. В телесном страдании, как и в силе, есть особое сияние; боль и сила состоят в тесном родстве.
Известно, что действие становится результативным, когда многократное повторение доводит его технику до бессознательного автоматизма, однако я стремился вовсе не к этому. С одной стороны, я производил эксперимент с сознанием, двигаясь по линии тело—сила-действие. С другой стороны, я увлеченно экспериментировал с телом, стараясь добиться того, чтобы моя плоть через бессознательное повторение рефлекторных движений стала верхом совершенства. Я вел игру, делая две ставки разом; и истинным очарованием для меня обладала та точка, в которой абсолютная величина сознания слилась бы с абсолютной величиной тела в единую характеристику.
Меня никогда не привлекал искусственный дурман, достигаемый при помощи алкоголя или наркотиков. Сознание должно оставаться незамутненным, чтобы мог проследить, как оно движется к своему пределу, преобразуясь там в бессознательную силу. Разве существует на этом пути более надежный свидетель, чем физическая боль? Она явно связана с работой сознания, а потому оно тоже может выполнять роль свидетеля, наблюдая динамику страдания вплоть до самого финала.
Боль — единственное телесное доказательство существования сознания, а возможно, и единственное его физическое выражение. По мере того как мои мускулы росли и наливались силой, во мне зрела склонность к активному страданию, обострялся интерес к боли. Только не подумайте, что это работало мое воображение. Нет, я напрямую учился у солнца и стали.
Многим, должно быть, знакомо такое ощущение: чем точнее удар боксерской перчаткой или мечом, тем больше он похож на встречный удар, нанесенный противником. Собственная сила, ее выброс создает в пространстве подобие вмятины. Если тело противника оказалось как раз в пределах этой вмятины, в точности совпало с ней по форме, значит, твоя атака была успешной.
Откуда возникает ощущение удачного удара? Разумеется, все зависит от расчета времени и расстояния, но правильность моментального решения определяется тем, успел ли ты заметить приоткрывшуюся щель в обороне противника. Нужно интуитивно почувствовать промашку перед тем, как она случится. Интуиция такого рода обитает где-то вне пределов рационального и достигается лишь длительной тренировкой. Тут нельзя сначала увидеть, а потом ударить. Когда пространство, расположенное по ту сторону клинка, сгустится и примет определенную форму, будет уже поздно. Удар должен был быть нанесен в момент, когда свершилось это превращение; впадине следовало совместиться с мишенью. Так выигрывают поединки.
Во время схватки такой всегда медленный процесс сотворения мускулов, когда сила обретает форму, а форма порождает силу, неимоверно убыстряется. Излучение силы, похожее на яркий свет, то разрушает форму, то создает ее вновь. Я видел, как красота и совершенство одолевали уродство и неприглядность. В неправильной форме обязательно обнаруживался изъян, через который происходила утечка сияющей силы.
Противник терпит поражение, когда его тело занимает впадину, намеченную тобой для удара, но в этот миг очень важно, чтобы твоя форма не утратила правильности и красоты. Форма должна быть постоянно меняющейся, безгранично подвижной, почти жидкой — чтобы моментально принимать любые очертания. Непрерывное излучение силы должно быть одновременно двигающимся и застывшим — как вода, образующая фонтан.
Такую текучую скульптуру помогает создать продолжительное закаливание солнцем и сталью. Творение это целиком и полностью принадлежит жизни, и главная его ценность состоит в прославлении каждого момента бытия. Именно в этом смысл ваяния: нетленный мрамор навеки запечатлевает мгновенный гимн плоти.
А отсюда вытекает: смерть таится сразу за поворотом, следующий миг принадлежит ей.
Я чувствовал, что в моей руке ключ к пониманию внутреннего устройства героизма. В цинизме, взирающем на любого вида геройство с ухмылкой, непременно присутствует комплекс собственной физической неполноценности. Насмешки над героем всегда раздаются из уст человека, считающего, что сам он на подобное не способен. Непорядочнее всего то, что такой автор, излагая соображения тривиальнейшей логики, ни за что не упомянет о своем физическом несовершенстве (во всяком случае явно, чтобы это было понятно аудитории). Ни разу не приходилось мне слышать или читать, чтобы обладатель сильного тела, вполне годящегося для отважных поступков, издевался над героизмом. Цинизм всегда сочетается с хилой или, наоборот, заплывшей жиром плотью — в отличие от страстного нигилизма и героизма, обычной принадлежностью которых являются закаленные мышцы. А все дело в том, что героизм можно назвать главным принципом телесности, ведь, в сущности, он сводится к контрасту между расцветом плоти и мгновенным ее разрушением — смертью.
Тело само по себе обладает достаточным даром убеждения, чтобы камня на камне не оставить от насмешек, которыми осыпает его сознание. В атлетической фигуре ощутим налет трагедийности; комичного же нет и в помине. Однако окончательно избавить здоровое, мощное тело от подхихикивания можно лишь введя фактор смерти, который придает плоти достоинство. Представьте только, каким потешным показался бы вам ослепительно великолепный наряд тореадора, если бы это ремесло не было напрямую связано со смертью.
Когда стремишься к абсолютным ощущениям, миг победы в состязании радует не так уж и сильно. Ведь настоящим твоим противником, реальностью, что отвечала тебе взглядом на взгляд, была сама смерть, а ее, как известно, одолеть не может никто. Поэтому победа в поединке — не более чем мимолетная улыбка суетной мирской славы. А если так, то чем такая победа отличается от цели, к которой устремлены помыслы адепта художественного слова?
Зато в величайших произведениях скульптуры, например в бронзовом дельфийском вознице, мы ощущаем подлинную нетленность, ибо ваятелю удалось запечатлеть соединение славы, гордости и смущения, возникшее в миг победы, когда смерть дохнула атлету в самый затылок. Кроме того, в статуях еще есть предельность пространства, символизирующая конечность высшего пика земной славы и неминуемо ожидающее впереди увядание. Скульптор в своей неимоверной гордыне об этом не думал — ему хотелось лишь воссоздать мгновение триумфа жизни.
Итак, достоинство и торжественность тело обретает только в близости к гибели. Значит, решил я, путь должен лежать через страдание, боль и постоянное напряжение всех органов чувств, дающее доказательства бытия. Мне казалось, что неистовые предсмертные муки сочетаются с крепкими мускулами идеальным образом, лишь следуя эстетическим запросам судьбы. А ведь судьба, как известно, не часто прислушивается к голосу Прекрасного.
Нельзя сказать, чтобы на заре своей жизни я не имел ни малейшего представления о физических страданиях, но в те годы из-за мешанины в мыслях и чрезмерной чувствительности я путал боль с душевными терзаниями, не умея отличить одно от другого. Форсированный марш с винтовкой на плече через равнину Сэнгоку и перевал Отомэ к подножию Фудзи был тяжелым испытанием для хилого гимназиста, но я воспринимал тяготы и лишения того учебного похода как чисто пассивную, духовную муку. У меня не хватало мужества приветствовать страдание, самому стремиться к боли.
Ознакомительная версия.