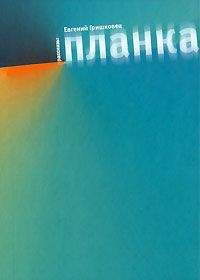Увидеть Хамовского гладко выбритым можно было только утром, на подъеме флага, к обеду его упругие толстые щеки уже покрывала серебристая щетина, а к вечеру она превращалась в короткую седую бороду. Из него все, что называется, перло. И еще он беспрерывно курил самые дешевые сигареты без фильтра, которыми снабжался экипаж на табачное довольствие.
Невозможно было представить себе, чтобы на него кто-нибудь из офицеров, даже командир или старпом, повысил голос или попробовали бы его ругать. Никогда! Наш въедливый и истеричный старпом по фамилии Галкин, которого иначе как Ворона, никто между собой не звал, даже он ни разу не посмел сделать хотя бы замечание Хамовскому. Старпом, чей голос раздавался без умолку из всех уголков и отсеков корабля, который легко всех наказывал и постоянно сетовал, что не имеет права расстреливать и вешать, который доводил свой голос до какого-то хриплого визга приблизительно раз в десять минут… Он ни разу не посмел выразить даже неудовольствие боцманом.
Хамовский никогда не спешил, мы ни разу не видели его бегущим или хотя бы запыхавшимся, но он всегда оказывался в том или ином месте корабля раньше всех и подгонял нас железными тумаками или даже кулаком, который был огромный, сухой и очень меткий. Пальцы боцмана были волосатые, и кулак казался от этого еще больше, хотя и без того был огромным. Как же больно он бил в спину или в лоб! Какие яркие и белые летели искры из глаз. Но мы каждый раз благодарно кричали: «Спасибо тащ мичман!» Он приучил нас к этому, и мы с удовольствием орали, понимая, что так было в те самые незапамятные времена, когда моряки были не то, что сейчас.
Еще на корабле у нас был матрос по фамилии Беридзе. Звали его Джамал, и был он грузин, а точнее аджарец. Его сильно любил Хамовский, и меня Хамовский тоже любил, не так сильно, как Беридзе, но все-таки довольно сильно. Мы очень страдали от этой любви.
Джамал был очень особенный человек. Во-первых, он был старше нас всех. Его призвали на службу в 22 года, а, стало быть, он, по сравнению с нами восемнадцатилетними, был мужик. Он был высокого роста с нелепой и совершенно непропорциональной фигурой. Длинные ноги и руки, короткое широкое туловище, короткая шея, огромная голова, и отдельной частью образа Джамала был нос. Очень большой даже для его огромной головы. А голова у него была такая, что даже бескозырка 60-го размера, самая большая, какую смогли найти, сидела на ней, как кипа на голове еврея.
Джамал очень плохо говорил по-русски и чертовски плохо обучался. Но то, что он говорил, всегда было красиво и удивительно парадоксально. Он отличался выдающейся физической силой и такой же ленью, правда, с приступами неожиданного трудового энтузиазма. Работать он умел, особенно ремонтировать что-нибудь не очень сложное и, главное, не связанное с электричеством. До службы он работал лесником в Батумском ботаническом саду. Его ладони были сухие и покрытые настоящими непроходящими мозолями, как корой.
Джамал остро чувствовал несправедливость и с трудом принимал условия военной субординации. А когда на него кричал кто-нибудь из офицеров, он все равно поднимал правую руку к груди и говорил: «Э-э-э», — и укоризненно качал головой. Когда он так делал старпому, тот взрывался, орал, обещал Джамала расстрелять, и говорил очень быстро очень много обидного про Грузию, грузин, родственников Джамала и ближайших его родственников. Джамала спасало только то, что старпом говорил очень быстро, и Джамал просто не понимал, что именно ему говорят.
Джамал не понимал и не собирался понимать, что перловая каша и макароны это еда, и ее можно есть. Он не понимал что то, что нам давали под названием чай можно пить. Ему было сложно, но он не задавал вопросов. Он старался сохранять спокойное выражение лица всегда. И чем непонятнее была ситуация, тем спокойнее, молчаливее и горделивее держался Беридзе.
Однажды, когда проверяющий офицер из командования флотилии, нагрянувший с инспекцией, требовал от матроса Беридзе объяснить и рассказать, как он должен действовать в ситуации по боевому расписанию… Он требовал, чтобы Джамал рассказал, как он должен действовать, и в какой последовательности. Джамал стоял более-менее по стойке смирно и не говорил ни слова. Он не плохо управлялся с нашим торпедным аппаратом и все делал быстро и мощно своими большими руками, но тут он молчал. Он понимал, что им недовольны, что его ругают и даже могут наказать, но молчал. Я уверен, что если бы ему дали возможность говорить по-грузински, он все бы сказал, скорее даже не сказал, а как-то по-простому объяснил бы. Но сказать, как этого требовал устав и инструкция… Или если бы его медленно и вежливо попросили показать, что он должен делать, он все бы показал. А тут он стоял и молчал.
Однажды я спросил его: «Джамал, а на каком языке ты думаешь?» Я не ожидал от него такого тонкого ответа, какой получил. Он задумался минуты на три, то есть надолго. Было видно, что в его большой голове идет серьезная и обстоятельная работа.
— Когда я разговариваю с Багидзе, — наконец медленно ответил он. (Багидзе был еще один аджарец на нашем корабле. Он служил в машинном отделении и был трюмным машинистом. Им удавалось поговорить не часто и они всегда сильно спорили на родном языке) — Да, когда я говорю с Багидзе, — повторил Джамал, — я думаю по-аджарски. А когда говорю с тобой, я думаю по-русски, — сказал он и через небольшую паузу добавил, — с акцентом думаю.
Так вот, Беридзе стоял перед проверяющим и молчал. Молчал спокойно, без вызова, но и не без гордости.
— Да как вообще этот питикантроп тут служит. Он что, немой у вас что ли? — вышел из себя чистенький проверяющий офицер. Ты долго мне тут индейца будешь изображать? А?! — он приблизился вплотную к Джамалу и говорил прямо ему в лицо. — Алё! Ты что, джигит, забыл, где ты и кто ты? А?! Я тебя заставлю букварь выучить, чучело носатое. Торпедист, понимаешь! Тихоокеанец, мать твою!
Видимо, говоря последнее, офицер брызнул слюной в лицо Беридзе. Джамал изменился в лице, и я замер от страха за него. Джамал медленно вытер рукой лицо.
— Послушай, товарищ ка, — сказал он снисходительными даже покровительственно спокойным голосом, каким спокойные и сдержанные взрослые говорят с распоясавшимися детьми. («Товарищ ка» заменяло Джамалу обращение ко всем офицерам и мичманам, имелось ввиду — товарищ командир.) — Ну что ты ругаешься? Вот торпеда стоит, он тоже ничего тебе не говорит, он тоже тихоокеанский.
Что тут началось… Но я не об этом.
Когда мы с Джамалом служили первый свой год на корабле, нам приходилось периодически чистить картошку. Часто мы делали это вместе вдвоем. На 130 человек картошки надо было чистить много.
Джамал чистил картошку очень просто. На каждую картофелину у него уходило шесть движений ножом. Вне зависимости от размера картошки у него получался небольшой кубик. Все кубики у него выходили приблизительно одинаковые.
Он сидел понуро, резал картошку, и внутри него закипала обида, раздражение и какие-то слова. К восьмой картофелине он громко ворчал, к десятой ругался по-аджарски, а после двенадцатой сильно бросал нож и получившийся кубик в ведро. Потом он бил себя ладонями по щекам и громко говорил ведру по-русски…
— У меня три сестры, понял! Один старший, две младший! Я один сын! Я эту картошку в руки не брал никогда, — и дальше снова по-аджарски.
Так он говорил минуту. Потом тихо брал нож и очередной корнеплод, и все повторялось в точности. И так через каждые двенадцать, до самого конца, в смысле, пока картошка не заканчивалась.
Когда Хамовский увидел его способ обработки картошки, он приказал выбрать из очисток все джамаловы обрезки, а потом заставил меня на глазах у Джамала очистить их и бросить в ведро с чищенной картошкой. Джамалу же он приказал стоять и смотреть. Я ковырялся очень долго, и это было трудно. Когда я поднял глаза на Джамала, в глазах его стояли большие слезы, а зубы он сжал так, что скулы побелели. Хамовский тоже стоял и смотрел.
В следующий раз, когда мы снова попали на камбуз, чистить картошку, Хамовский явился сразу. Он забрал у Беридзе нож и дал ему обычную алюминиевую ложку.
— Скобли. Это картошка, а не дрова. От твоей чистки человек двадцать таких же, как ты, моряков, вообще остались без картошечки, — сказал он медленно, строго и сразу ушел.
Джамал долго и безропотно скоблил картошку ложкой, только пару раз вышел из камбуза покурить. Любил наш боцман Джамала, что тут сделаешь.
Но после случая с котлетой Джамала полюбили все. История с котлетой передавалась из уст в уста, и я думаю, будет передаваться, пока на нашем корабле поднимали или поднимают военно-морской флаг. Эта история будет жить, пока жив наш корабль.
К тому моменту, как она, эта история, произошла, мы прослужили на корабле больше половины положенного срока. Джамал отпустил большие черные с рыжим усы и заматерел безусловно.