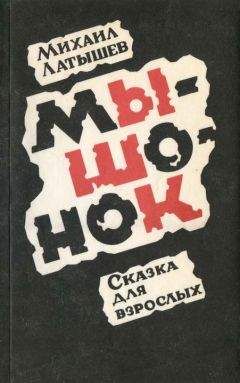Странница рассказывала о соседском парнишке Ваське Левашове. О дружбе своих сыновей с ним, о любви, которая связывала Ваську и ее дочь Настену. Несколько раз странница описывала одну и ту же сцену: как сжигали ее семью, и как подносил Васька Левашов к стрехе горящий пук соломы, и как гоготали выстроившиеся кружком его дружки, как ни жалости, ни боли не испытывали они от нечеловеческого крика, доносящегося из горящей избы — там находились две невестки старухи с детьми. Настена и муж старухи, отморозивший еще в германскую войну ноги, а потому лежавший на печи без движения. Сыновей в избе не было — оба к тому времени погибли. Один еще летом сорок первого года, когда только-только война началась, а второй, партизан, за неделю до того, как сожгли семью странницы. Из-за того, что он был партизан, и сожгли. Самой странницы тоже в избе не было — ее схоронила под полом мать Васьки Левашова. Схоронила вместе с Анютой, которой шел второй год. Вот Ваську-то Левашова и ищет странница. Почти пятнадцать лет. Она уверена, что он, проклятый, жив. Она должна его найти. И найдет. Не она, так внучка. Но найдут. Иначе не будет смысла в их существовании на земле.
Когда странница замолчала, дед Ознобин не знал, как ему быть — шутливые разговоры, к которым он привык за долгую жизнь, сейчас были не к месту. Странница выручила его.
— Скажи, — спросила она, — у вас тут никто не появлялся после войны? Новый кто-нибудь не приезжал?
— Приезжал, — хрипло ответил дед Ознобин, — Шилов Григорий Матвеевич. Только он на твоего Ваську не похож — основательный мужчина. У него тоже семья в оккупацию пропала.
— Значит, дальше пойдем. — Вздохнула странница. — Отосплюсь — и дальше.
— А мне, видно, не скоро заснуть, — помолчав, сказал дед Ознобин.
— Я предупреждала, — покачала головой странница. — Не ты первый такое говоришь: что не заснешь. И не последний, видать. А как он, этот Шилов, выглядит хоть, расскажи.
— С зимы третий год пошел, как он в Березовке. Плотником работает. Сын у него имеется, пацаненок еще. Ну а сам… Невысокий такой, худенький.
— Васька, — прошептала странница. — Ей-богу.
Такая уверенность была в ее голосе, что дед Ознобин испуганно отшатнулся:
— Ну ты это… Не надо…
— И плотничать умеет, и худенький… Ей-богу, Васька!
— Да ты что! — уже закричал дед Ознобин. — Я с Григорием Матвеевичем сдружился, очень он хороший человек, не надо на него поклеп наводить.
— Это он умеет, — сказала странница, — казаться хорошим. Ни за что не поверишь, что убийца.
— Я у него, как у родного сына, жил зимой. На его харчах. Про Григория Матвеевича такое…
— Анюта не хотела сюда идти, а меня так и тянуло, так и тянуло. Видишь, не зря.
— Жалко мне тебя, но знал бы, как повернется наш разговор, не пустил бы в избу. Ты сначала узнай Григория Матвеевича, а потом говори.
Странница помолчала, затем задумчиво произнесла:
— Может, ты и прав. Прости, если хорошего человека понапрасну оклеветать хотела.
— Всем нам там все простится, — показал на потолок дед Ознобин, но понял, что странница его жеста не увидела и уже собрался пояснить, что имел в виду, когда странница сказала:
— Что мне там? Я же сказала: в бога не верю. Перестала верить. Тамошний суд мне не указчик. Я сама Ваське судья. Я да его мать. Она велела и за нее судить подлеца, ежели встречу.
— Ваську суди, а Григория Матвеевича не стоит.
— Мне бы хоть одним глазом на него взглянуть, — сказала странница, забыв о своей слепоте, — хоть одно слово его услышать.
— Ну так сходим, — предложил дед Ознобин. — Видишь, рассвело.
Он тоже забыл о слепоте странницы.
— Рассвело? Анюту жалко будить. А то бы сходила.
— Я его приведу, — засуетился дед Ознобин, — Григория Матвеевича. Одна нога тут, другая — там. Я сейчас. Ты посиди, посиди. Я и поесть от него принесу. У меня ничего, кроме черствого хлеба, нет.
— А ты мой узелок развяжи. Там есть. Добрые люди пожалели.
— Одна нога тут, другая — там, — повторил дед Ознобин. — Мы с Григорием Матвеевичем сейчас придем.
Он торопливо вышел из избы. Рассказ странницы на части разрывал мозг деда Ознобина, ее неправдоподобно-спокойные слова царапали сердце, вонзаясь в него вроде колючек репейника, одетого в светло-зеленую пуховую одежку. Где-то мычали коровы. Над Березовкой плыл светлый туман. Сбрызнутые его влагой, кусты черемухи и сирени исходили томительным запахом. Луна еще не убралась с неба, а смотрела сверху пристально и внимательно, хотя и побледнела, почти слилась со стремительно голубеющим куполом, подкрашенным на востоке красным пламенем. Дед Ознобин глубоко вдохнул прохладу. Это не избавило его от печали и боли, проникших в него во время разговора со странницей, но, в свою очередь, печаль и боль тоже не могли перечеркнуть невольную радость деда Ознобина, которую он испытывал, глядя на подернутую туманом Березовку.
Шагая мимо пробуждающихся изб, дед бормотал:
«Надо ж! Про Григория Матвеевича такое! Жалко ее, очень жалко. Понятное дело, гадина ползучая этот Васька, да Григорий-то Матвеевич из иного теста сделан. Я не слепец, вижу кто чего стоит — вон, дай бог, сколько годочков прошландал по земле. Что-нибудь соображаю. А жалко ее. И девчонку. Особенно девчонку. Это она, выходит, жизни не видела — все Ваську с бабкой искала. Из деревни в деревню, из деревни в деревню — по всей России. Елки-палки! Будь помоложе, сам бы с ними пошел — только найти бы того гада».
Несколько раз дед Ознобин останавливался (от быстрой ходьбы задыхался) и подолгу стоял, держась за забор или какое-нибудь дерево. Березовские улицы вились, как хотелось им, и очень часто то сосна, то береза или верба выбегали почти на середину улицы.
«Лектор к нам приезжал на день Красной Армии — такую околесицу нес! Ему бы странницу послушать, по-другому заговорил бы, бумажная душонка. Про геройство наше долдонил, про то, какие мы сильные. Сильные, конечно, сильные, ядрена мать, коль вынесли такое, как старушка эта, и дышим еще, и силы находим ходить из деревни в деревню, из деревни в деревню — по всей России».
«А девчонка дюже красивая, — невольно улыбнулся дед Ознобин. — Видел я ее мельком, но глазищи у нее… Не приведи господи! Глянет — до нутра прожжет».
Под впечатлением глубины и яркости глаз девчонки, спящей сейчас на его скрипучей кровати, входил дед Ознобин в зайцевский двор. В избе — ни огонька, ни звука. Видать, еще спали. Дед Ознобин уже подумал не уйти ли ему, как из-за угла показался Шилов — мятый после сна, застегивающий на ходу ширинку. Заметив деда, он расплылся в улыбке:
— Утро доброе! Что так рано?
Глядя на улыбающегося Шилова, дед Ознобин с облегчением вздохнул: «Нет, Григорий Матвеевич не Васька. Улыбка какая у него… Как спокойно себя чувствует… Да будь на нем такой грех, как говорит странница, разве смог бы Григорий Матвеевич спать? Он бы от кошмаров места не находил, он бы от стыда и страха выл».
— Что молчишь? — спросил Шилов. — Язык проглотил?
Дед Ознобин вытер лоб тыльной стороной ладони:
— Ты, Григорий Матвеевич, и не представляешь каких я страхов натерпелся к тебе идя. А вдруг, думаю, правда?
— Что — правда? — нахмурился Шилов.
— Да понимаешь, странница ко мне пришла, издалека откуда-то, про соседа своего рассказывала, Ваську какого-то, гада ползучего.
Дед Ознобин, окончательно уверившийся, что Шилов не может быть соседом странницы, говорил почти весело. Но только он упомянул имя Васьки, ему стало ясно, что странница не ошиблась — так моментально переменился Шилов. Он перестал быть плотником с золотыми руками. В глазах его метались, забивая друг друга, огонь страха и более сильный огонь злобы. Он больше не был радушным хозяином, пододвигающим деду Ознобину тарелку горячих щей. И дед Ознобин, не отдавая себе отчета, попятился к калитке.
— Дед, ты че? — окликнул его тот, кто был Шиловым. Ему не повиновался язык, отчего у него из горла сначала вырвался то ли испуганный стон, то ли просто хрип, а потом уже — слова.
Не спуская с того, кто был Шиловым, глаз, дед Ознобин выбежал на улицу, оставив калитку открытой, и она раскачивалась, пронзительно скрипя.
«Смазать петли надо», — машинально отметил тот, кто был Шиловым, но сразу же другая мысль заставила его панически заметаться из стороны в сторону: «Вот и все… Известно… Все…»
Он ринулся в избу, однако, на полпути остановился: «Знает только дед… Догнать…»
Неизвестно откуда у деда Ознобина появились силы — бежал он быстро, не задыхаясь, как задыхался еще минут пять назад. Видимо, подгонял его топот сзади да злой шепот: «Дед, подожди… Дед… Я что сказать хочу…»
В сенях своей избы дед Ознобин обессиленно прислонился к стене. Дверь распахнулась, и тот, кто был Шиловым, медленно приблизился к нему.