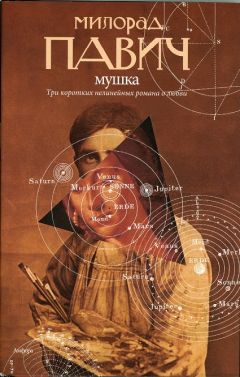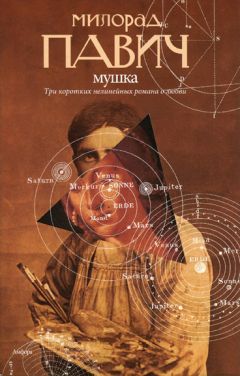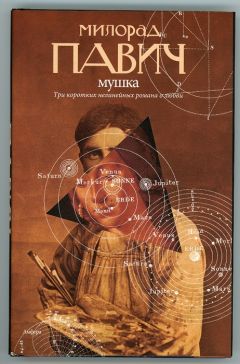С этим знанием о плаче и танце Юсуф вернулся назад, на пляжи Антальи, где вновь принялся таскать свой мешок. Он больше не помнил, кто он такой, впрочем, ему это было безразлично. Потому что он понял кое-что еще о танцовщице, исполняющей танец живота. Он брел по берегу, увязая в гальке, и внимательно переводил взгляд слева направо и справа налево, стараясь не пропустить что-нибудь потерянное. Но то, что знал он, потерять было нельзя.
* * *
А знал он, что в музее каждый вторник во второй половине дня уборщица и кассирша начинают перешептываться между собой: «Греческая ведьма опять за свое. Видела, как она снова раздваивается? Одна остается на постаменте, а вторая встает у окна, из которого видно море». — «Это греческая ведьма над нами издевается, мстит, что не пускаем того музыканта, хочет, чтобы он ей играл…»
Теперь по вторникам во второй половине дня все двери и окна в здании музея стали открываться в другую сторону, и все уборщицы и смотрители знают, что это дело рук греческой ведьмы. Чтобы хоть как-то успокоить танцовщицу, им пришлось однажды вечером положить к ее ногам двуствольную свирель, отобранную в свое время у Юсуфа.
Кое-кто предполагает, а Юсуф знает наверняка, что иногда по ночам она прижимает инструмент к ноздрям, играет печальную мелодию и танцует свой танец, не сходя с постамента.
Замок на озере Maggiore
— Говорит Нил Олсон! — пророкотало в мобильном телефоне Филиппа Рубора. — Как ты?
— Сегодня гораздо лучше, чем завтра, — ответил художник.
— Поэтому-то я и звоню. Ты похож на человека, который не понимает, что с ним случилось.
— Старость со мной случилась. А с ней каждый себя чувствует так, словно не понимает, что с ним случилось. Погоди, сам увидишь…
Звонил земляк художника, тот самый, с виллой в Женеве и замком на озере Maggiore в Италии, принадлежавшим его жене. Он был высоким, сутулым, его крупная, «лошадиная» голова очень нравилась женщинам и художникам. Никто не знал, откуда у него деньги, — то ли он получил их в наследство, то ли итальянка в качестве приданого поднесла ему то, что другим при женитьбе обычно не достается. Во всяком случае, для Нила Олсона не составляло проблемы слетать когда вздумается в Африку или в Англию. Он вызывал стопроцентное доверие окружающих; его нога всегда готова была ступить на другой континент, да и вообще, казалось, что он в любой момент готов совершить какой-то прыжок; все вокруг были убеждены, что он вот-вот совершит нечто великое и до сих пор никому не ведомое, нечто, что удивит весь мир. И под знаком этого «вот-вот» жизнь его протекала просто великолепно.
— Я заскочу за тобой в субботу, поедем ко мне в замок, поужинаем. Если захочешь, останешься переночевать. Мы будем одни, жена в отъезде. Я собираюсь тебе кое-что показать.
Художник не был готов к такому повороту событий, но Нил Олсон отказов не принимал.
— Я давно планировал с тобой поговорить. Многое из того, что с тобой происходит, происходит только потому, что ты не хочешь ни с кем поделиться. Сейчас ты мне все расскажешь. Да и у меня для тебя кое-что есть.
Так что два друга в «шевроле» Нила Олсона пересекли итальянскую границу и уселись ужинать на террасе, где стояли кованые стол и стулья, тяжелые как пушечные ядра. Они пили местное белое вино и ели баранину, глаза их отдыхали на Альпах, а души купались в зеленоватой воде озера, когда художник вдруг сказал, что живется ему очень тяжело.
— Скверно я себя чувствую, впервые в жизни мне трудно переносить одиночество. Тоскую по тому дому, в котором мы с Феретой провели лучшие годы нашей жизни.
— Понимаю, — сказал Нил Олсон. — Но позволь я тебе кое-что расскажу. На Святой горе в Греции с древнейших времен и по сей день живут два типа монахов — идиоритмики и кеновиты. Первые предпочитают спасаться в одиночестве, вторые — все вместе, в так называемых «општежитиях». Я говорю тебе об этом потому, что так же всё устроено и в жизни. Ты, как и большинство художников, склонен к уединению, ты — одиночка. Существуешь вне мира, сам по себе. Ты не включен в общество, в котором живешь. Но быть одиночкой — дорогое удовольствие. Общество не терпит таких людей. Оно исторгает их из себя, как тело исторгает занозу. Отсюда и зависть, и ненависть к тебе и к твоей жене. Да, на вашу долю выпало немало зла. И справиться с этим было нелегко. Прежде всего ей. Но нынешнее положение — и твое, и Фереты — совсем не так уж плохо. Просто ты этого не понимаешь. Попробуй взглянуть на вещи с другой, положительной стороны. Вы совершили поступок, который несомненно помог вам: разойдясь, вы избавились от косых взглядов и злобных сплетен.
— А я думаю, наши дела идут хуже некуда. Нам не удалось скрыться от недоброжелателей. Просто она — там, а я — здесь.
— Не будем сейчас обсуждать, почему так должно было случиться. Патриархальное общество, от которого вы бежали (надо признать, что и здесь есть люди, которые недалеко ушли от него), считает, что муж не имеет права поддерживать свою жену, а ты поддерживал Ферету и как художник, и как муж. Вот если бы ты ее бил, никто бы тебе и слова не сказал, но вы оба попрали родовые устои. И все, что происходит вокруг вас, вызвано не завистью или злорадством, нет, и это даже не заговор. Невозможно организовать заговор, в котором участвовало бы столько людей. Суть происходящего кроется гораздо глубже: корни древнего как мир патриархального мировоззрения пронизывают все, что нас окружает. Сейчас, когда вы врозь, вам обоим живется намного легче. Теперь они оставят вас в покое. Увы, такова цена успеха, и ее придется заплатить.
— Но что мне теперь делать?
— А вот это второе важное дело из тех трех, ради которых я тебя сюда и пригласил. Но позволь начать издалека. Если ты откроешь Библию, то в Евангелии от Матфея прочтешь: «И все, чего ни попросите в молитве с верою, получите». А Марк пишет: «Потому говорю вам: всё, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, — и будет вам». Как думаешь, почему они так считали? Потому что Вселенная — это зеркало, зеркало для каждого из нас, она отражает нас и возвращает нам все наши импульсы, мысли, намерения, действия. Поэтому будь осторожен в желаниях. И четко их формулируй, проси лишь один раз, этого достаточно, и получишь именно то, чего хочешь. Может быть, ты уже о чем-то попросил, не имеет значения. Желание сбудется. Независимо от того, каковы будут последствия для тебя и других. Попробуй и увидишь. Если же ты считаешь, что не получишь желаемое, и постоянно возвращаешься к этой мысли, ничего не выйдет. Итак, выбери, попроси, поверь и прими желаемое, как говорит книга советов такого рода…
А теперь перейдем к третьему пункту, может быть самому важному. Я ответил тебе на вопрос, почему вы с Феретой должны были разойтись. Это больно, но ничего не попишешь. Я ответил и на твой вопрос, что делать в такой ситуации: пожелай — и получишь! Теперь перейдем к вопросу, почему лучше, что ты здесь, а не там.
Из комода XVII века, в котором он держал почту, Нил Олсон достал небольшую книжечку — путеводитель по «Ночи музеев», которая должна была состояться на родине художника в мае. Олсон раскрыл его на странице, отмеченной кожаной закладкой, и протянул своему гостю. В путеводителе говорилось, что в число музеев, расположенных в квадрате А и готовых распахнуть свои двери в «Ночь музеев», входит и Галерея художника Филиппа Рубора и скульптора Фереты Су. Далее указывался адрес той квартиры, где некогда жили Ферета и Филипп Рубор, квартиры, ограбленной подчистую в ту давнюю «Ночь музеев», остаток которой он, перед отъездом в Женеву, провел с Феретой в отеле.
Филипп Рубор не мог поверить своим глазам.
— Думаю, не надо спрашивать, захочешь ли ты взглянуть на такое чудо, как ваша с Феретой галерея, включенная в программу «Ночи музеев», — сказал Нил Олсен, и оба улыбнулись.
Художник убивает картину
Рубор подсчитал, что его самолет приземлится раньше, чем начнется «Ночь музеев», и у него в запасе будет еще пара часов. Так оно и вышло. Он не собирался заходить к Ферете, да, впрочем, и не смог бы попасть к ней при всем желании, поскольку адреса у него не было, она написала ему всего один раз, из Турции. Поэтому он зашел в какой-то полупустой кафетерий, заказал мокко с молоком и маффин, а затем по телефону забронировал номер в отеле. Взял газеты и, отгородившись ими от мира, решил убить оставшееся время.
Но у него ничего не вышло. В первой же газете (самой подходящей, чтобы спрятаться за ней) он увидел качественную цветную фотографию одной из своих работ. Сомнений быть не могло. Эту вещь он написал в 1998 году. И это оказался не единственный сюрприз. Далее последовал еще больший. Рядом с фотографией размещалась статья какого-то неизвестного ему критика. Или, лучше сказать, известного неизвестного. Под текстом стояла подпись: Александр Муха. Муха писал о нем, Филиппе Руборе. И о Ферете. Заголовок был довольно претенциозный, типично журналистский: