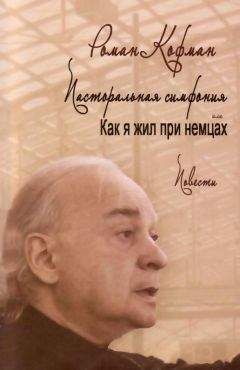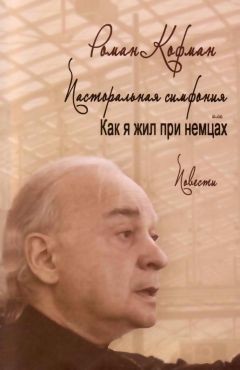Здесь все было настоящим. Настоящее, только что вынутое из коровы, молоко, настоящая колодезная вода, настоящие лирники на ярмарке, а из пшеницы однажды вышел настоящий волк и унес настоящую девочку.
В клубе бывали танцы с семечками, а как-то дождливым вечером приехали настоящие артисты.
Их оказалось четверо, причем один из них стоял у входа и отрывал корешки билетов. Потом он поднялся на сцену и сказал: «Мы, столичные артисты, счастливы, что выступаем в клубе перед такой замечательной публикой». Все аплодировали. Затем ведущий рассказал два анекдота, один из которых, очень смешной, мне запомнился еще по эвакуации; его любил повторять Турсунка.
Когда все отсмеялись, стала выступать женщина-каучук. Было очень красиво и опасно. Она была в желтом, с блестками, трико; откинувшись назад и образовав собою букву «О», она пыталась достать зубами цветок, при этом жилы на ее шее сильно раздувались. Из-за спешки женщина-каучук перед концертом не напудрилась, и ноги ее, на которые я смотрел, были озябшими, с синевой. Трудно сказать, взаправду ли она была счастлива, выступая, но публика действительно была замечательной и хлопала очень дружно. Аплодисменты, правда, не получались громкими: люди сидели в плащах, а это всегда поглощает звук.
Потом на сцену вышел тенор. Это был пожилой толстяк, почти совсем лысый и с грустными глазами. Будь он обыкновенным человеком, он казался бы смешным. Но если смотреть на артиста, и он лысый, или толстый, или с большим носом, то всегда кажется, что так нужно специально... Тенор исполнил несколько неаполитанских песен; пока публика хлопала, он вытирал платком вспотевший лоб и шею. Аккомпанировала ему худая женщина в длинном платье (мне всегда казалось, что все аккомпаниаторы — немые). Это была та же дама, которая сопровождала муки женщины-каучук. Играя, она с чувством приподнимала правое плечо и делала большие глаза.
Затем ведущий извинился за то, что концерт лишь в одном отделении, — до областного центра добираться в ночи часа четыре. «Концерт окончен, — сказал он — до новых встреч, дорогие друзья!». Пока зрители вставали с мест и двигались к единственному выходу, артисты переоделись и спустились в зал. Публика сразу притихла, стало слышно, как по крыше барабанит дождь. Пропустив артистов, все снова оживились, стало шумно и интересно.
На улице была кромешная тьма, не по-ночному бойкий дождик.
31. ПИСЬМО ВЛАДИМИРА САРКИСЯНЦА
19 ЯНВАРЯ 1944 ГОДА
«Здравствуйте, дорогой тов. Куницын! Ваше письмо мне переслали из части, я спешу выполнить Вашу просьбу. Я с Сашей дружил в училище, мы были в одной роте. Правда, у него был ближайший друг — Игорь Тодоров, но он попал совсем на другой фронт. Мы же с Сашей попали в одну часть. Я был назначен в батальон командиром стрелкового взвода, а Саша — в комендантский взвод.
Я видел вашего дорогого сына очень часто на привалах и после боя. Последний раз я видел его после переправы через Днепр; мы, между прочим, плыли в одной лодке. Мой батальон вступил в бой, а Саша остался при штабе полка. Это было в 15 км севернее Киева, возле сел Звенигородка и Глебовка, На пятый день я был ранен и, проползая неподалеку от штаба полка, увидел Сашу и позвал его. Он перевязал мне раны и помог добраться до санчасти. Это было 1-го октября 1943 года, и Саша был жив-здоров. Через день мы расстались. Он оказался настоящим товарищем, преданным и храбрым.
Я советую Вам писать и писать, не может быть, чтобы он пропал без вести — наш любимый и дорогой Саша Куницын. Я, как стану в строй, постараюсь помочь Вам, чем смогу.
Пока всего хорошего, с приветом Владимир Саркисянц.
Да, еще перед самой операцией Саша уговаривал меня, что все будет замечательно, так как будет меня резать не то его дядя, не то Ваш дядя — я не помню, состояние было совсем плохое. Так вот, прошу Вас, передайте этому золотому человеку низкий поклон за его сердце и руки. Пусть он будет счастлив!».
32. АНДРЕЙ КУНИЦЫН О СИЛЕ ИСКУССТВА,
О ПРИСУТСТВЕННЫХ МЕСТАХ, О СТАРОМ ЦЫГАНЕ,
О ЧРЕВЕ ПАРИЖА И ПТИЦЕАРТЕЛИ «ВОСХОД»
Между тем, я к тому времени уже вкусил сладость успеха у публики.
Ученики музшколы в торжественный день 8 марта выступили перед работниками нарсуда — и мой учитель посчитал, что служителям правосудия в Международный женский день будет любопытно послушать «Вальс» композитора Глиэра. И действительно, меня выслушали, не перебивая, и в конце похлопали. Но дальше произошло то самое. Я спрыгнул с невысокой эстрады в зал, замешкался, ища глазами выход, — и тут женщина, которую я не успел даже рассмотреть, привлекла меня к себе, порывисто поцеловала и, нехотя отпустив, подтолкнула к двери.
Я шел домой вдоль Ботанического сада, и во мне, как положено, пела какая-то высокая струна, и я остро чувствовал свою избранность. К этому надо прибавить головокружение от облачка женских духов, которое следовало за мной до самого дома.
Сестра сказала: «Если тебе придется когда-нибудь снова предстать перед судом, тебя спасет только „Вальс“ Глиэра».
Я не представал перед судом с той поры, но зато судили моего отца. Это было очень красиво. Высокий зал, высокие окна, высокие спинки судейских кресел... Да и все здание по старинке называлось очень возвышенно: присутственные места.
От слов «присутственные места» мне становилось на душе светло и торжественно: было ясно: в этих местах кроме людей судящих и людей судимых, присутствует еще нечто, и притом такое высокое, что лучше его не упоминать по пустякам.
Мы с мамой перепутали время заседания и полдня просидели на невероятном процессе. Два цыгана, молодой и старый, подделали документы, и вышло, что они не цыгане, а представители другой страны и должны получить вагон сукна для тамошней армии. Один ротозей им сукно выдал, а потом их все равно задержали вместе с вагоном.
Прокурор говорил всякие резкие слова, глядя почему-то в сторону адвоката, будто это он во всем виноват, подсудимые с любопытством смотрели на прокурора, а судья время от времени утихомиривал шумный цыганский табор, перекочевавший на время процесса со станции Караваевы дачи в присутственные места.
Затем любопытство подсудимых было удовлетворено; им сообщили приговор: по 25 лет каждому. Кодекс был суров. (Старому цыгану было лет восемьдесят; стало быть, сейчас ему лет сто пять — сто шесть, он, наверное, уже вышел и начал новую жизнь).
А с папой все было чрезвычайно эффектно. В самом начале суда встал прокурор и сказал, что папу надо из-под стражи освободить, так как он тут ни при чем. Так сказал сам прокурор, который привык только обвинять! Это была минута, достойная пера Эмиля Золя или Короленко, и мы с мамой прослезились. А папа освободился из-под стражи и сел в первом ряду.
Я, впрочем, тогда еще не знал, что Короленко бывал в этом зале на одном шумном процессе начала века, а из Эмиля Золя я знал — притом наизусть — только полстранички, где написано как Майоран и Кодина целовались, кувыркаясь в корзине с перьями, под сводами Центрального рынка — «чрева Парижа». Не знал я тогда и того, что спустя не такое уж долгое время, гарцуя в том роскошном и мучительном седле, на которое подсадил меня когда-то человечек в стоптанных ботинках и скрипичным футляром подмышкой, я сам буду бродить после полуночи, в недолгий час затишья, между тюками с сельдереем и кадками с живой рыбой, среди ящиков с фруктами и тележек с мусором, и от одной металлической фермы к другой будут перебегать крысы, а в углу будет стоять корзина с перьями — внучка той, в которую розовощекий Майоран подтолкнул Кодину.
Кстати, то папино дело тоже было связано не то с перьями, не то с яйцами: директор птицеартели «Восход» вступил, как сказал судья, в преступную связь со своей заместительницей (я сразу представил их в корзине с перьями), после чего они занялись хищением общественной собственности.
А папу, между прочим, тоже пожурили — за близорукость. Мне было обидно. Разве можно за это ругать? Папу из-за близорукости даже на фронт не взяли. «Отсутственные места», — подумал я, выходя на залитую солнцем улицу и держа за руки папу и маму.
33. ПИСЬМО Ф. А. КУНИЦЫНУ
8 ЯНВАРЯ 1945 ГОДА
«НКО СССР.
Тов. Куницын! Ваше письмо о розыске военнослужащего тов. Куницына А. Ф. получено.
В целях быстрейшего розыска и уточнения данных сообщите дату прекращения письменной связи (число, месяц и год) и его воинский адрес по последнему письму.
Начальник 5-го отдела Сташинский».
34. ТОМИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЧУВСТВИЕ АНДРЕЯ КУНИЦЫНА
Осенью я распрощался со скромной музыкальной школой. Шел дождь, деревья были темнозеленые от сырости, горбатая улица уходила вверх; не вздохнув и не обернувшись, сошел я с крыльца на теплый мокрый асфальт.
Колесо небесного механизма, скрипнув, стронулось с места, звезды зашевелились; судьба, взглянув на шахматную доску, взяла меня двумя пальцами за тонкую шею и переставила на другую клеточку. Я был зачислен в другую школу — и не простую, а специальную, и не просто так себе, а при консерватории (родители, жмуря глаза и понижая голос, называли ее старомодно: «школа одаренных детей»).