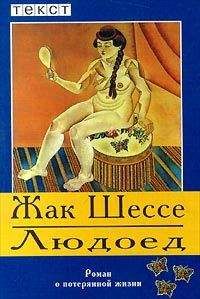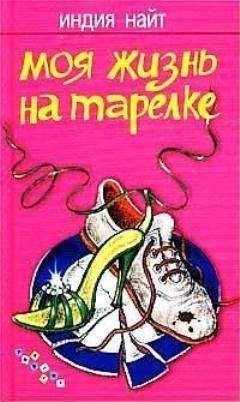Наконец члены семьи сошлись на урне из брекчиевидного мрамора, модели Б-1. Все находили красивой эту породу с вкрапленными в нее ракушками, красновато-коричневый камень слегка золотился, название звучало изысканно и загадочно. Это изделие выглядело в высшей степени естественным именно из-за ракушек, оживлявших мрамор: оно, как подумал втайне каждый, соответствовало примитивным вкусам отца. Они выбрали «одноместную» модель.
Этьену поручили сделать заказ в похоронном бюро.
* * *
На обратном пути Жан Кальме встретил ежа и долго смотрел на него. Машину свою он оставил дома, в гараже, и теперь неторопливо поднимался по дороге Ровереа, как вдруг ему послышалась тихая возня у изгороди, а затем пыхтение, что-то вроде тоненьких всхлипов вперемежку с похрюкиванием. Странная встреча — ежик был до того поглощен своими делами, что даже не заметил Жана Кальме, — но она неожиданно успокоила его, ублаготворила на много дней вперед, словно крошечный зверек, копошившийся в синей траве мокрого от росы сада под неверным лунным светом, дал человеку урок тихого животного счастья.
Сначала Жан Кальме увидел глазки ежа — черные зрачки в золотой каемке, очень красивые, ярко блестевшие в темноте, под низкими ветвями лавра, окруженные длинными, шелковистыми, также золотящимися волосками. На темном гладкошерстном рыльце непрерывно шевелился, что-то жадно вынюхивал черный носишко, похожий на мокрую вишенку. Жан Кальме стоял, не двигаясь, не дыша, боясь, что зверек заметит его и исчезнет. Ему почему-то ужасно хотелось, чтобы ежик остался тут подольше, словно он ждал от него какого-то совета.
Все чувства Жана Кальме устремились к этой маленькой изящной головке, четко видной в лунном свете на фоне темной листвы. Потом в этой тени что-то зашуршало, и появилось туловище ежа, длинное, гибкое, но с круглым брюшком, выглядевшим до странности чувственно.
Коротенькие ножки пробежали несколько сантиметров, нос опустился к земле, вынюхивая добычу, круглое тугое брюшко всколыхнулось под бронею щетинистых иголок с белыми кончиками, которые мерцали в темноте серебристым ореолом, придавая этому вполне земному явлению вид загадочного призрака.
Жан Кальме, застывший на месте, чувствовал, как в нем поднимается какое-то странное, мощное нетерпение. Внезапно он ощутил запахи ночных дорог, мокрой травы, влажного перегноя, увидел следы улиток и жуков, услышал шуршание хитрых, боязливых полевок, словно из потаенных недр земли на него вдруг брызнули ее скрытые, живящие соки, оскверняя, будоража, наполняя все его существо новой, свежей, хмельной силой. Каким необыкновенным казалось ему появление дикого зверька среди ухоженных садов и роскошных вилл! Возникнув из нетронутой могучей земли, это крошечное создание, простодушное, невинное, в колючем серебристом венце своих иголок, стало тем знаком природы, которого Жан Кальме неосознанно жаждал всю свою жизнь, символом веселой, дикой свободы, свидетельством того, что никому не дано победить великие силы земли, которые таятся в ее недрах, временами вырываясь на волю прямо среди жалких творений рук человеческих…
В последующие месяцы Жану Кальме еще предстояло встретить несколько других зверейпредвестников. А в ту ночь он спал глубоко и спокойно. И наутро, открыв глаза, понял, что не видел никаких дурных снов — ни быка, ни отца, что бросались бы на него с вершины и давили насмерть! Он узрел в этом благой знак и с радостью отправился в гимназию.
* * *
Жан Кальме прикрывает за собой дверь учительской и шагает по уже опустевшему коридору, где бюст Рамю <Рамю Шарль Фердинанд (1878-1947) — швейцарский франкоязычный писатель, автор многих романов, эссе и рассказов.>, черный, мрачный, уперся пустым взглядом в маленький умывальник возле секретариата. Жан Кальме идет медленно, так, словно в нем испортился какой-то внутренний механизм. А ведь утро прошло замечательно, он провел сегодняшние занятия с бодростью человека, вернувшегося из отпуска… На площади он застывает в оцепенении.
Колокола собора отзванивают полдень. Колокол, гудящий шмелиным басом с вершины холма, тяжкая песнь бронзы, слышная далеко окрест, небесный хор монахов и епископов, коих сменили суровые кальвинисты в квадратных шапках. Пугливая сорока облетает стороной призрачные дрожащие ореолы голых осин. Жан Кальме чувствует, что у него подгибаются ноги, но при этом взгляд четко фиксирует веселый пейзаж, низкие деревца, могучую тушу собора, ярко-желтого под солнцем, и туманный провал на месте города, у подножия холма. В воздухе, дрожащем после колокольного звона, еще витает нечто живое, почти насмешливое, как школьная дразнилка… Жан Кальме идет дальше, мрачно думая: «Наверное, я — единственный, кто грустит в такой сияющий день». Нынче он провел замечательный урок по Петронию и Апулею. Его ученики любят разбирать вместе с ним латинские тексты. Писатели эпохи декаданса кажутся им понятными, близкими. Зато они терпеть не могут Цицерона и Вергилия, которых считают прислужниками власти и ассоциируют со школьной скукой, сочинениями, переводами и составлением планов. А вот магия текстов из смутных периодов истории, родство с восточной литературой, иррациональная страстность, напротив, привлекают их, буквально зачаровывают, и каждый урок на эту тему оживляется рассказами о колдуньях, оборотнях и волшебных плутнях из романа Апулея. Но откуда тогда это изнеможение, эта дрожь во всем теле? Жан Кальме направляется к кафе «Епархия». Его обгоняет стайка девочек в джинсах; они громко болтают и хохочут, их длинные волосы прыгают по плечам, с которых еще не сошел загар летних каникул. Жан Кальме входит в «Епархию» и садится у окна, к единственному свободному столику. Заказав «рикар», он мрачно созерцает пейзаж за окном. Хорошенькие девчонки в джинсах как раз в эту минуту переходят по мосту Бессьер на правый берег, толкаясь, дурачась, оглядываясь по сторонам; их резкие движения смотрятся вызывающе на серо-голубом фоне неба. Жан Кальме даже издали чувствует их веселую юную силу, и сердце его пронизывает давно знакомая острая тоска.
Он отпивает «рикар» из рюмки.
Это вино — плохая подмога невротикам. Оно наводит скверный дурман. Уши закладывает, словно в них напихали вату, желудок мучится сладковатой отрыжкой — предвестием рвоты: вот когда позавидуешь шумным, несокрушимо здоровым гимназисткам. Жан Кальме погружается в это тошнотворное состояние, как в вязкий сон. Зачем он стал преподавателем? Чтобы избежать общества взрослых? Ему слишком хорошо известно, что самым ужасным из них был его отец — был и остается после своей смерти. Школьные классы, в которые он входил прежде и куда будет входить всю свою жизнь, служат ему убежищем от страшной отцовской власти, грозящей обрушиться на целый мир. Убежищем, впрочем, весьма хрупким и тем более ненадежным, что духу мертвеца проникнуть туда много легче, нежели его грузному телу! И почему именно в этот миг Жан Кальме с тоскливой нежностью вспомнил горное шале, где он проводил в детстве конец летних каникул? Быть может, именно оттого, что сейчас его мучили одиночество и усталость? Ему явственно привиделся тамошний пейзаж: вечер, из глубины долины поднимается ветерок, он срывает листья с платанов, но они не взмывают в воздух, как листва других деревьев, а летят горизонтально, по направлению к волшебной горе, уже окутанной сумерками и гудящей голосами колоколов. Внизу простиралась иссохшая долина.
Там вовсю гулял холодный фен, взметая сухие листья в густую синеву неба… Жан Кальме вновь видит отца и мать, сидящих под красной лампой в комнате с бревенчатыми стенами; он находится тут же, рядом, читая «Остров сокровищ». Затем он встает, подходит к окну, и взлохмаченные ветром волосы падают ему на глаза. Эта сцена запечатлелась в его памяти с поразительной четкостью: трава вокруг шале, дрожащая от порывов ветра, фиолетово-синий вечер, красная лампа, белая рубашка доктора, распахнутая на груди, поросшей седеющими волосами, мать — чуть дальше от света, с журналом на коленях, долгие паузы в разговоре и жалобный вой фена в ветвях платанов. «Ах, все было возможно тогда!» — думал Жан Кальме, терзаясь невозвратимостью счастливого видения. Да, все было возможно: вырезать лодочки из коры, читать истории про пиратов, рисовать зубьями вилки узоры на масле, пугать друг друга призраками с чердака, состязаться с доктором в стрельбе из пращи, неотрывно следить за галками, летавшими над белым гребнем холма, — их стремительные виражи напоминали прихотливые узоры на вышивке, а хриплые воинственные крики вызывали только улыбку.
Жан Кальме одним глотком допивает свой «рикар», и его мысли вновь обращаются к прошлому, счастливому, беззаботному прошлому, когда вся жизнь была впереди, полная обещаний и возможностей, и ничто не грозило разрушить душевный покой и любовь…
Его сотрясает дрожь. Вокруг него заканчивают обед рабочие в спецовках, торговцы в белых халатах; они платят по счету и расходятся по своим гаражам и лавкам. Их сменяют первые группы гимназистов, прибегающих сюда в перерыв между уроками; рассевшись маленькими компаниями, они смеются, курят сигареты, заказывают кофе, мальчики обнимают за плечи своих подружек. Жан Кальме никак не решается встать и выйти. Его сковало оцепенение.