К тому же они переносят только простую пищу (в буквальном и переносном смысле): вкус кажется им привкусом; привкус же ощущается ими как странность. Если какое-либо происшествие выманивает этих женщин из их логова, они тычутся, не находя себе места, подобно раку-отшельнику, которого выколупали из раковины. Они полновластные хозяйки своего домашнего очага — здесь они держатся самоуверенно, но враждебно относятся ко всему за пределами их владений. Оторвавшись от повседневного труда, они теряются, робеют, чувствуют себя не на месте; усесться со стаканом лимонада на террасе кафе для них равнозначно сподобиться благодати или соприкоснуться с неземной красотой. Без привычной работы жизнь представляется им чем-то несуразным, нелепо смешным, что вызывает у этих горных жительниц, по-деревенски чопорных и ехидных, ухмылку, обнажающую их больные десны, которые они стыдливо прикрывают рукой.
Зачахшие от недостатка света или истомленные лихорадкой, они после блеклого отрочества как-то разом засыхают, становятся существами без возраста. А впоследствии занимают в доме не больше места, чем табуретка; их засовывают в угол и не обращают на них никакого внимания до тех пор, пока безропотно не закончат они своего бренного существования.
В этом уединенном ущелье жизнь подчинена лишь смене времен года; она медленно вращается по своей орбите, оказываясь в определенный момент на том же самом месте, что и в прошлом году: ничто не меняется ни к лучшему, ни к худшему. Изменения зависят лишь от погоды: более жаркое лето иссушает ручьи, опустошает цистерны; ранние снегопады отрезают пути сообщения, а бывает зловеще удлиняют зиму, задерживая наступление благодатных весенних дождей. Но в конце концов все годы похожи один на другой. Уже невозможно вспомнить, когда именно произошло то или иное событие: смерть пса от укуса гадюки, удар молнии, испепеливший лиственницу у входа на пресловутое кладбище, неожиданный приезд родственника, рассказывающего о событиях невероятных и странных. О возрасте знают только — молод ты или стар: условия жизни не допускают половинчатости. Одни живут, другие умирают, или, вернее, перестают жить, что не совсем одно и то же.
Лишь воинская повинность да само собой война придают реальность таким незыблемым и великим, но здесь совершенно абстрактным субстанциям, как Париж, Франция, мир. Суть их раз и навсегда воплотилась в Эйфелевой башне (статуэтка из красной меди), в ноже, заканчивающемся гильзой, в феске зуава на банке какао (или в миниатюрной фигурке Свободы, а то и в каком-нибудь фаянсовом ките). Впрочем, к чему дальше ломать голову? Все это по другую сторону действительности, вернее сказать, здесь совсем иная действительность: та, которую здесь считают неопровержимой, имеет столько же общего с веком, сколько с луной.
Возьмем пример: однажды весьма образованные господа решают, что необходимо лечить кретинов (ведь их считают именно таковыми) из горного района: мысль о том, что эти бесноватые существа, слюнявые и восторженные, сидят себе под деревьями да ведут мистические беседы с ветерком или с бабочками, не дает покоя вышеупомянутым господам. Излечить, то есть приблизить поведение этих субъектов, живущих среди овец в почти абсолютной изоляции, к поведению первого попавшегося олуха, отупевшего от городской сутолоки, азартных игр, кабаков и кинематографа. А ведь нетрудно, казалось бы, заметить, что налицо два различных вида животных. Излечив, то есть приобщив к стандартному отупению, горных жителей отсылают обратно. И вот результат: одни действительно сходят с ума, и теперь уже веяние ветерка их не интересует, другие исчезают внезапно и бесследно, как бы поглощенные природой, а потом охотники, попадая в овчарни или подняв голову, где-нибудь в рощице, совершают страшное открытие; большинство «исцеленных» впадает в самое черное безумие; они уже не способны ни пасти коз, ни беседовать с мотыльками. Возможно, они оказались всего лишь более чувствительными, чем им подобные; с них содрали шкуру во имя иного миража, отличного от тех прежних миражей, которыми они оборонялись; это все равно как если бы под предлогом гигиены отмыть эскимосов от жира, которым они, склонные к легочным заболеваниям, смазывают грудь, защищаясь от холода. Слишком поздно спохватились, что мнимый кретинизм жителей гор не что иное, как способ восприятия мира: их мира. Тут есть над чем призадуматься. Ведь это не что иное, как современное колдовство. И если колдовство это, кроме всего прочего, — искаженный опыт действительности, то колдун чаще всего поджигатель, а не тот, кого сжигают.
Это мир, по которому разгуливают последние строители защитных стен[2], вынужденные вслепую вступать в единоборство с роком, который в этом несчастном крае выступает в чистом, почти божественном виде, освещая его днем не обычным солнцем, а ночью — не пошлыми звездами. Для этих людей не пригодны банальные истины, сфабрикованные где-то в другом месте и в чуждых им целях; им даже не приходит в голову обеспокоиться тем, что их меры веса и длины не соответствуют общепринятым; в общем-то они об этом попросту не задумываются. Между ними и остальным миром — глубоко утробное неприятие друг друга, они говорят на разных языках и не имеют общих интересов.
Тысяча девятьсот сорок восьмой год; вершина неприступной гранитной крепости: густые леса, засушливые степи; палящий зной сменяется стужей; здесь сохранились еще уголки, нетронутые в своем уединении (уединение это никогда не было столь полным, как после войны, которая опустошила этот обездоленный край в третий раз за столетие, тут и смерти, и переселения, вызванные возвратом мирной жизни); впоследствии, когда понаедут сюда, желая идти в ногу со временем и послав к чертям свою скобяную торговлишку, веселящиеся горожане, местные овцы начнут ягниться под звуки транзисторов.
В описываемый момент здесь на отшибе живут небольшие семьи или же старые, похожие на одиноких вепрей холостяки; все они кажутся еще более чудовищными из-за того, что между ними угадываются странные распри, явно странные: никому даже в самом близком окружении не доискаться до истинной их причины. Дело идет о стычках не на живот, а на смерть, возгорающихся по самому незначительному поводу. Иногда они кончаются плохо, даже очень плохо, а причина несчастья отнюдь не чье-либо сумасшествие. В округе не сыскать ни одного прочного сука или балки, которые бы хоть раз да не вызвали желания перекинуть через них смертную веревку; а встречаются и такие, которые уже выполнили свое гнусное предназначение.
Но самое сильное впечатление тут, наверху, производит тишина, звуки, которые различит внимательное ухо, делают тишину еще более ощутимой или же гнетущей, в зависимости от вашего умонастроения. Ветер дышит (метафора необходима для сохранения душевного равновесия, когда находишься перед лицом этой мрачной панорамы, лишенной растительности, панорамы, расстилающейся на необозримые пространства в устрашающей теллурической невозмутимости), листва потрескивает под дождем, какое-то животное шуршит соломой, каштаны кубарем катятся сквозь ветки — поневоле вздрогнешь: шум их падения, словно удары хлыста по листьям; сплетенные сухие стволы скрипят, точно старые кости. Слышно, как где-то трутся одна о другую черепицы, сдвинутые проползающей змеей или ящерицей, и совсем близко сохнут и корчатся под палящим солнцем высокие травы, среди которых спрятались стрекочущие насекомые. Все эти звуки и составляют тишину: они — свидетельства ее постоянства, ее глубины, но к человеку они не имеют ни малейшего отношения.
Дороги проходят в стороне от этих глухих долин, и если в кои-то веки там и проедет машина, пыхтение ее сюда не докатывается. В этой стране нечасто услышишь звук колокола; деревни стиснуты между крутыми скатами гор, расстояния чересчур велики, чересчур обильны препятствиями, вершины чересчур круты, чтобы слышен был благовест, как в деревенской местности со спокойным, волнистым рельефом, где по утрам перекликаются петухи, а колокольный звон, проникая сквозь окрестную зелень, делает всякий день праздничным. Здесь же и воскресенье похоже на будни. В любое время года, все семь дней недели одинаково молчаливы, насыщены лишь извечным, невозмутимым дыханием природы, к которому надо привыкнуть и терпеливо сносить его до конца своих дней. Но жизнь, которую здесь ведут люди, так тяжка, так бедна развлечениями, что только в собственных нравственных муках и остается искать источник самоутверждения и смысл существования.
Здешние жители обладают безнадежным упорством поруганных, обездоленных и, в конце концов, позабытых существ: за их плечами длинная история преследований, несправедливых гонений и унижений, не считая теперешних обид и невзгод. Все это привило им привычку, если не вкус, к непосильным задачам. Теперь, когда уже не приходится оказывать сопротивление королевским драгунам, сражаясь в одиночку против целой сотни, надо победить суровую, безжалостную природу — один на один, и голыми руками. Тут не обойдешься без некоторого героизма, а ведь он теперь не в чести. Стоит ли удивляться тому, что здешняя молодежь в большинстве случаев отступает от борьбы, рассматривая ее как анахронизм, она предпочитает бесславные, но более легкие, спокойные решения. Вот почему, как только представится случай, кладут они ключ под порог дома и охотно меняют топор лесоруба и рукоятку плуга на первый попавшийся мундир государственного служащего.
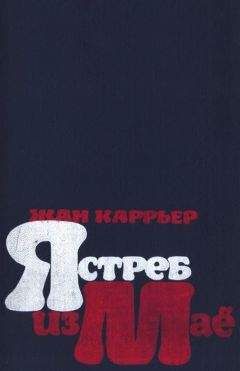


![Чарлз Робертс - В долинах Рингваака [Рыжий Лис]](https://cdn.my-library.info/books/25050/25050.jpg)
![Чарлз Робертс - В долинах Рингваака [Рыжий Лис]](https://cdn.my-library.info/books/23840/23840.jpg)
