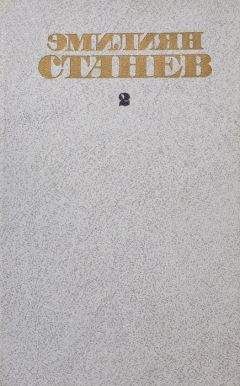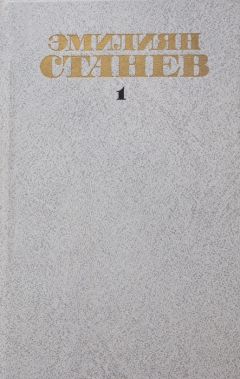Слава о нем как о враче быстро распространялась, с самого утра перед домом уже стояли в ожидании деревенские телеги и повозки, застланные рядном и соломой. Не только в приемной, но и по всей лестнице сидели больные, приехавшие из окрестных сел. Он сердито отчитывал тех, кто запустил болезнь, лечась у разных бабок и врачевателей, и его возмущение передавалось Марине. После приема и несложных операций, помогая ему умыться и снять халат, она слышала, как он вздыхает, видела его сердитое лицо и выражала свое сочувствие наивными, часто неуместными словами, но в глазах ее читалась нежность, женское тепло. А когда он ложился на кушетку отдохнуть, Марина на цыпочках спускалась вниз и делилась своим возмущением с бабкой Винтией. Ему было слышно, как она говорила: «Очень сердился и устал. Но какое же дурачье есть на свете! Лечатся заговорами…» Он все чаще ловил себя на том, что останавливает взгляд на ее талии и бедрах, что проявляет интерес к ее интимной жизни. Но каждый раз отвергал как недостойную мысль о связи с прислугой. Не привыкшее к воздержанию тело требовало своего, а приглашать Невянку к себе или самому посещать дом терпимости было уже неловко. И он, как бы против собственной воли, стал интересоваться ходом бракоразводного процесса и досадовал, узнав, что почтальон приходил опять. Случайные прикосновения во время работы, когда Марина помогала ему, лишь усиливали в нем жгучую уверенность, что, стоит лишь захотеть, эта женщина будет ему принадлежать. В душные августовские ночи он ощущал горячее дыхание раскаленного города, пропитанного возбуждающими запахами бузины и идущей от реки сладковатой гнили, слушал лягушачьи концерты и вопли армянина. И все это, такое родное и знакомое, пробуждало воспоминания о днях юности и необъяснимым образом усиливало томление по Марине, хотя теперешние его эстетические вкусы и понимание разницы в их положении спешили подавить подобное чувство. В эти ночные часы случалось ему уловить легкое дыхание своей помощницы, в ушах стоял ее напевный голос, он мысленно видел веселый свет ее глаз и, чтобы направить свои мысли в другое русло, заставлял себя думать о больнице, об охоте либо же о дочерях тех семейств, куда его частенько приглашали на ужин. Он уже не раз побывал у господина Николаки, у аптекаря, у Иванчо Тошева, державшего большой склад и лавку, где торговали керосином, дегтем и парафином. Всюду его окружали вниманием, расспрашивали про парижскую жизнь, рассказывали о своих недомоганиях и недугах, просили совета и, в надежде женить, знакомили со своими дочками. Доктор возвращался домой с тяжестью в желудке и досадой в душе.
После одного такого ужина у судьи, где ему пришлось выслушать упреки за то, что он ездит на охоту один, он застал Марину спящей на клеенчатой кушетке в кабинете. Она лежала в неудобной позе — ноги свешивались на пол, — видимо, прилегла и нечаянно уснула. Стоявшая на шкафу фарфоровая лампа с длинным блестящим стеклом заливала мягким светом спокойное лицо, с трогательной покорностью отдавшееся сну. Чудесные волосы отбрасывали на лоб легкую тень, перекинутая через плечо толстая коса поблескивала на тонком голубом платье, из сбившегося набок выреза выглядывала сладостно-нежная грудь.
Удивленный, очарованный, он застыл на месте. Чуть сдвинутая назад шляпа придавала ему залихватский вид. Опершись на трость, он разглядывал спящую так, словно видел впервые. В выражении ее лица он уловил печаль — казалось, эта женщина еще не испытала истинной страсти, и это особенно ясно читалось по горестно опущенным уголкам слегка приоткрытых губ. Кровь застучала у него в висках, и он поспешил отвести взгляд от тонкой талии и стройных бедер, натянувших ткань платья. Ему почудилось, что лежавшая перед ним красавица потеряла лучшие годы жизни, брошенная и забытая, и ему захотелось ее приласкать. Чтобы положить конец искушению, он постучал тростью об пол. Марина вздрогнула, розовое облачко набежало на ее лицо, засветившееся милой, виноватой улыбкой.
— Как же это я уснула, — проговорила она, торопливо поправив волосы и принимая у него из рук шляпу и трость.
— Ты не жди меня, когда я задерживаюсь, — сказал он.
— А как же я лампу оставлю? Еще пожар случится…
Она подняла на него глаза и впервые увидела, что он смотрит на нее как на женщину.
Когда ее шаги затихли внизу, доктор разделся и лег на свое удобное ложе, пытаясь мысленно вернуться к ужину у судьи. Потом встал, налил себе большую рюмку коньяку и выпил ее одним духом. Прежде, чем алкоголь подействовал, из ущелья донесся унылый крик филина. В этом крике угадывалось глухое, подавленное страдание, словно птица испытывала такую же неутолимую страсть, тоску и неясную боль, что и он сам…
Всю неделю доктор был хмур и раздражителен, подолгу засиживался дома за обедом и невольно следил за каждым движением Марины. Она спала теперь в кабинете, и ночи стали для него мучением. Ему казалось, что над ним витает дикая, безысходная неизбежность, грозящая запачкать его и унизить, что он уже не управляет собой… По вечерам он нарочно допоздна задерживался в кофейне за бильярдом и возвращался домой с чувством вины и отвращения к себе. Так прошло шесть дней, наступило воскресенье.
На сей раз он поехал на охоту со всей компанией, потому что надоело выслушивать упреки, да и хотелось похвастаться своими охотничьими успехами. На виноградники бог весть откуда забрела косуля, и вечером ее шкура висела на двери «Турина», собрав толпу зевак, а в пивной шел настоящий пир, затянувшийся до глубокой ночи. Когда возбуждение от удачной охоты улеглось и все разошлись по домам, доктор Старирадев остался один. В тот вечер он пил больше обычного. Выйдя из «Турина», он еще немного постоял на пороге. Тело ныло от накопившейся за день усталости, отяжелело от зноя залитых солнцем лугов, словно оно вобрало в себя и ядовитую сладость трав, по которым он ступал, и неотразимую суровость самой земли, и ее бесцеремонную власть, а неотступная мысль о том, что дома его ждет молодая красивая женщина, которая, возможно, желает его так же, как желает ее он, добавила к опьянению алкоголем и охотой новую волну хмеля.
Он отпер входную дверь и оглянулся на каморку бабки Винтии, желая убедиться в том, что старуха спит. Услыхал шипенье колонки в ванной, ощутил запах прогоревших дров, раскаленного железа и горячего пара, поднялся наверх, неслышно ступая по лестнице пыльными сапогами, и в открытую дверь кабинета увидел Марину. Она сидела на кушетке с вязаньем в руках — явно ждала его.
— Вы задержались, и я подбросила в колонку дров. Ванна готова, — сказала она, положив свое вязанье на стул.
Он посмотрел на нес долгим взглядом, и она смутилась от режущего блеска его глаз.
— А ты искупалась?
— Да, мы обе искупались. А потом бабушка Винтия легла.
Он опустился на кушетку так быстро и решительно» что она не успела и повернуться.
— Убери сапоги. — Он стянул их с ног и швырнул на пол. — И можешь идти спать.
— Белье у вас на кровати, — сказала она, нагибаясь за сапогами.
Доктор увидел у самых своих колен ее голову, крепкую белую шею, тяжелый узел каштановых волос, полные плечи и, сознавая, что более не в силах ни владеть собой, ни подумать о последствиях, подхватил ее под руки, поднял и с силой притянул к себе. На миг перед ним мелькнули ее глаза — скорее удивленные, нежели испуганные, затянутые влажной синевой, — он услыхал ее голос: «Что вы делаете, господин доктор?»
Тело ее отяжелело, и он повалил ее на кушетку.
После ванны он провел с Мариной всю ночь. И с тех пор доктор Старирадев стал жить со своей прислугой, хоть его и колола мысль о том, что он ведет себя недостойно. Однако уколы эти с каждым днем становились все менее болезненными, и к концу осени он стал смотреть на свою связь с Мариной, как на естественную и ни к чему не обязывавшую близость, которую в нужную минуту всегда можно оборвать, как это уже не раз бывало у него с другими случайно встреченными женщинами…
Зима наступила рано, и Тырново притихло, в пушистом снежном уборе. По крутым улочкам Варуши с трудом подымались груженные дровами возы, город окутала тонкая дымка тумана, смешанного с дымом печных труб. Извозчики сменили пролетки на сани, обитые красным плюшем. Ковры и тканые полости закрывали колени седоков, направлявшихся на вокзал. Рано поутру женщины толпились у пекарен за горячим хлебом, по Баждарлыку разносился аромат свежих пышек, в раскисшем снеге тонули кашель и шаги чиновников и гимназистов, заглушаемые треском разламываемых веток и стуком топоров. Январь был особенно морозным, непрерывно валил снег и дул ветер. Детвора пораскатала всюду ледяные дорожки, с вечера нарочно поливала их водой из колонок, и утром прохожие, спускавшиеся из Варуши или подымавшиеся туда, чертыхаясь держались за стены домов. Женщины посыпали лед золой, рубили топором, били озорников и отнимали у них салазки. Из-за многочисленных праздников чуть не каждый день начинался мелодичным перезвоном колоколов, а под вечер на улицах Тырнова пахло нафталином от извлеченных из сундуков праздничных нарядов и дешевыми духами — горожане спешили на именины или возвращались с праздничного ужина. На западе светилось прозрачное зеленоватое небо, позже на нем вспыхивало алое зарево, в казармах играли вечернюю зарю. Ущербный лунный серп, похожий на кривой турецкий ятаган — наследие османского ига, зловеще взирал с посиневшего неба. Потом, когда часы на городской башне били десять — медленно, протяжно, будто раздумывая после каждого удара о тщетности времени, и эхо долго и меланхолично повторяло их звон, — над притихшим городом раздавался страшный вопль армянина — безответный вопль, который звал на помощь и стихал в холодном молчании, успокоенный еле слышным шепотом Янтры.