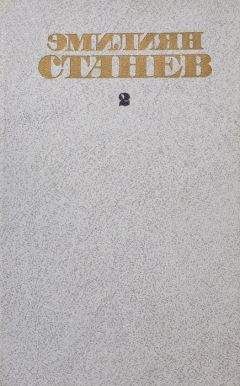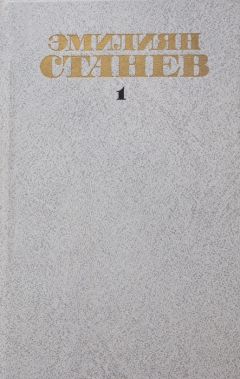7
Зима наступила рано, и Тырново притихло, в пушистом снежном уборе. По крутым улочкам Варуши с трудом подымались груженные дровами возы, город окутала тонкая дымка тумана, смешанного с дымом печных труб. Извозчики сменили пролетки на сани, обитые красным плюшем. Ковры и тканые полости закрывали колени седоков, направлявшихся на вокзал. Рано поутру женщины толпились у пекарен за горячим хлебом, по Баждарлыку разносился аромат свежих пышек, в раскисшем снеге тонули кашель и шаги чиновников и гимназистов, заглушаемые треском разламываемых веток и стуком топоров. Январь был особенно морозным, непрерывно валил снег и дул ветер. Детвора пораскатала всюду ледяные дорожки, с вечера нарочно поливала их водой из колонок, и утром прохожие, спускавшиеся из Варуши или подымавшиеся туда, чертыхаясь держались за стены домов. Женщины посыпали лед золой, рубили топором, били озорников и отнимали у них салазки. Из-за многочисленных праздников чуть не каждый день начинался мелодичным перезвоном колоколов, а под вечер на улицах Тырнова пахло нафталином от извлеченных из сундуков праздничных нарядов и дешевыми духами — горожане спешили на именины или возвращались с праздничного ужина. На западе светилось прозрачное зеленоватое небо, позже на нем вспыхивало алое зарево, в казармах играли вечернюю зарю. Ущербный лунный серп, похожий на кривой турецкий ятаган — наследие османского ига, зловеще взирал с посиневшего неба. Потом, когда часы на городской башне били десять — медленно, протяжно, будто раздумывая после каждого удара о тщетности времени, и эхо долго и меланхолично повторяло их звон, — над притихшим городом раздавался страшный вопль армянина — безответный вопль, который звал на помощь и стихал в холодном молчании, успокоенный еле слышным шепотом Янтры.
В эти морозные дни выяснилось, как неудобен снятый доктором дом. Он плохо отапливался, запахи кухни проникали в кабинет, лестница невыносимо скрипела, а вода в помещении замерзала. Доктор бранил старуху и Марину за нерасторопность, за то, что недостаточно проветривают комнаты, и все чаще задумывался над своим будущим.
В один из холодных вечеров, когда над городом кружили с карканьем стаи ворон — предвестье того, что погода испортится, его пригласили в дом коммерсанта Эвстатия Смилова. Служанка, которую прислали за ним, открыла парадное выкрашенного желтой краской дома с резными карнизами и железным балконом в центре фасада, провела по коридору с мозаичным полом, и доктор поднялся по каменной лестнице в холл, где его обдало ароматами хорошего табака и кофе. Навстречу ему вышел человек средних лет, плотный, кругленький, с печальными, по-женски кроткими глазами.
— Милости прошу, — сказал хозяин дома и, отстранив служанку, принял шляпу и пальто доктора. — Пожалуйте сюда. — Он указал на открытую дверь в гостиную, и доктор увидел высокую худую даму в черном платье и с уложенными валиком иссиня-черными волосами.
— Моя супруга, — сказал Спилов. — Прошу вас в гостиную, господин доктор. Мы в большой тревоге.
Доктор по привычке взглянул на часы.
— Господин Смилов, не так ли?
Тот поклонился и спросил:
— Что прикажете — кофе или горячего чаю?
— Это потом… Сначала посмотрим больного.
— Нездорова наша дочь,[9] доктор. Рассказать вам, как она расхворалась? Со вчерашнего дня не встает с постели.
Доктор сел на предложенный хозяином дома стул и обвел взглядом английскую мебель, дивясь тому, что в этом городе у кого-то может быть такая дорогая обстановка. «Вероятно, куплена по случаю у какого-нибудь дипломата. Впрочем, в Тырнове дипломатов не водится», — мелькнуло у него в голове. Слушая взволнованный рассказ хозяина, он рассматривал лепной потолок, накрахмаленные тюлевые гардины, белую кафельную печь в английском стиле — за ее дверцей алели догорающие угли. Все было новое, в прекрасном состоянии — воплощение чистоты и элегантности, совершенно не похожей на то, что ему приходилось видеть в домах состоятельных тырновчан — не было ни дешевых олеографий, ни лавок вдоль стен, ни тонких венских стульев с плетеными сиденьями, ни запаха мясной похлебки. На белых обоях в нежный цветочек висели два портрета в позолоченных рамах, явно кисти иностранного художника. Чуть напевный говор хозяйки, тонкие черты ее уже увядающего лица и длинноватые изящные руки, обтянутые черным кружевом рукавов, так же, как и озабоченность мужа, показывали, что в этой семье царят тепло и благовоспитанность, напоминавшие доктору буржуазное благополучие европейских домов. Он вдруг ощутил себя в спокойном, надежном мире и особенно отчетливо понял, как неудобно, холодно и жалко его собственное жилище.
— У молодых девушек часто бывают такие кризисные состояния, но это быстро проходит, — сказал он, выслушав рассказ о том, как дочь еще осенью почувствовала недомогание, лишилась аппетита, постоянно температурила, а со вчерашнего дня вообще не встает. Обычно доктор при приеме больных и во время визитов говорил лаконично, не стараясь подкупить пациентов наигранным оптимизмом и любезностью. Крестьяне и городское простонародье часто выводили его из себя, но в этом доме он был сама сдержанность и учтивость, что лишь подчеркивало его компетентность. Он взял со стола свой саквояж и попросил проводить его к больной.
Они пересекли комнату с диваном и круглым столом, на котором стояла швейная машинка, и вошли в спальню дочери. Доктор увидел разметавшиеся по подушке черные волосы и белую девичью руку на синем атласе одеяла, которым была застелена кровать с латунными шариками и задрапированным голубым шелком изголовьем. Девушка испуганно приподнялась, опираясь на локти, и улыбнулась. Натолкнувшись на высокую, мужественную фигуру доктора и его твердый, уверенный взгляд, улыбка робко застыла в уголках ее рта. В растерянных глазах, таких же кротких, как отцовские, что-то промелькнуло и исчезло. Взгляд их стал сосредоточенным и недоверчивым. Доктору показалось, что эти глаза излучают сияние — они почему-то напомнили ему теплую звездную ночь.
— Добрый вечер, — произнес он беззаботным, игривым тоном, желая внушить девушке, что все будет прекрасно и она напрасно тревожится. — Янтра замерзла — отличный лед для катания на коньках. Вы умеете кататься, мадмуазель?
— Умею, но только держась за стул… И если позволяет здоровье.
Ее «звонкий, чистый голос придал этому дому еще большее очарование, словно в него проникла свежесть и чистота снега.
— Когда-то, гимназистом, я катался на коньках и намерен попробовать снова. Могу ли я надеяться, что вы составите мне компанию?
— О, с удовольствием, только бы поправиться.
— Позвольте узнать, на что же мы жалуемся? — сказал он, опускаясь на стул возле кровати.
— Голова болит, кашель. Есть не хочется, делать ничего не хочется.
Он взял ее руку, чтобы измерить пульс, внимательно рассмотрел кончики тонких пальцев. Пульс был учащенный — возможно, от волнения. Он отметил про себя изящную линию носа с легкой горбинкой. Градусник скользнул под нежную подмышку, округлая девичья рука по — детски прижала его. Девушка потупила взгляд. Улыбка еще не сбежала с лица, на щеках виднелись ямочки.
— Итак, мы не едим, плохо спим, делать ничего не хочется, у нас мрачные мысли… Я в ваши годы, милая барышня, тоже закончил здешнюю гимназию. Три года волочился за хорошенькими девушками и умолял отца отправить меня за границу. Вы французский изволили изучать или немецкий?
— Французский, — девушка поперхнулась, и он понял, что она старается подавить кашель.
— Кашляйте, не надо сдерживаться, — посоветовал он.
Лицо больной побагровело, ее отец у него за спиной переступил с ноги на ногу и вздохнул.
Когда приступ кашля прошел, доктор приступил к осмотру, и господин Смилов закрыл за собой дверь комнаты.
— Снимите сорочку. Я должен хорошенько вас осмотреть.
Мать откинула одеяло и помогла дочери снять ночную рубашку. Под длинными кружевными панталонами доктор увидел белое девичье бедро и розовое углубление под коленом, а затем изящную спину и девственную грудь, которую девушка пыталась прикрыть. Красота этого тела вызвала в нем восхищение и желание проникнуть во все его тайны. «Как же это я ничего не слыхал об этой девушке. Она ничуть не похожа на здешних невест. Должно быть, туберкулез… — думал он, там и тут прикладывая трубку к ее спине. — Вот здесь слева хрипы… начало каверны… Температура типично туберкулезная, кончики ногтей слегка загнуты вверх… Сомнений нет. Неужели умрет?»
— Кашляйте! Кашляйте свободно и сильно, милая барышня! — сказал он скорее для того, чтобы отогнать эту смутившую его мысль.
Он отложил стетоскоп, стал выстукивать спину. Прикосновение к ее теплому телу вновь вызвало в его душе жалость и прилив нежности. «Болезнь еще в самом начале, надо сделать все возможное. Но что именно?.. Они богаты, у них есть средства спасти ее», — продолжал он размышлять. Попросил се лечь на спину, и снова встретился со смущенным взглядом прелестных глаз, в которых стоял немой вопрос и мольба.