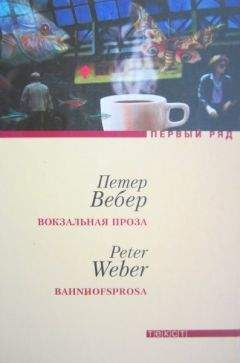Умывальщица запрокидывает мою пустую голову назад, в раковину, и я знай себе гляжу на вентилятор. Она промывает мне голову и уши холодной водой, чтобы закрыть поры, добирается до кожи, массирует ее до самой глубины, прижимается грудью и животом к моему плечу и начинает расспросы. Это не женщина, а поистине песня, она внушает мне полное доверие, шелковым голосом выдергивает из моего уха последнюю застрявшую там ниточку и сама отвечает на все свои вопросы. Толкует она главным образом о гигиене. Мужчины, говорит она, паршивеют без заботливого надзора женщины или приобретают налет пошлости. Тому, что сын получил в фигуре матери, повзрослевший потомок обязан придать собственную форму, а это мало кому удается, и потому мужчины дичают, вырождаются, принимают облик тоскливых звуков. Но вот ежели кто из них имеет возлюбленную, предается любви, ну, тогда другое дело, он снова и снова перевоплощается, принимает новый облик. Многие мужчины, которым она моет голову, вообще не знакомы с простейшими правилами гигиены касательно тела, кухни и туалета. Ни одна женщина не позволит себе сесть в мужском хозяйстве на унитаз. Мужчины, если их не принудить к гигиене, валялись бы в скором времени на земле, как паданцы, и быстро сгнили бы. «Положа руку на сердце, молодой человек: вы садитесь, когда вам надо помочиться, или нет?»
К нам поспешает парикмахер, издали оглядывает нашу группу. Мы — лохматые кусты, нуждаемся в стрижке. Руки и ножницы срослись у него в особый аппарат, стригут проворно, остриженные волосы клочьями реют по воздуху, но, прежде чем они упадут на пол, парикмахер уже исчезает. Пока практикантка заметает срезанные волосы, меня засовывают под колпак фена и как следует подсушивают. Некоторым бело-синим подле меня за несколько секунд сбривают остатки волос. Отныне их головы будут украшены лысинами, им дозволено подыскать себе в оранжереях подходящий плод и водрузить его на голову. Как плодовые короли, шествуют они по стезям своим, и чем большей спелости достигает плод, тем горделивее становится их походка, а плоды тем временем перезревают, откликаясь на внезапно проснувшуюся у своих малых повелителей жажду власти, быстро загнивают, и вскоре их приходится отправлять на компост. Один английский матрос, который не иначе как отличался чрезвычайной глупостью, находясь в Индии, споткнулся о некий огромный красный плод, упавший к его ногам. Когда матросу объяснили, что плод сей называется «мыслящий плод», он разрезал его пополам, проглотил сладкую, скользкую массу, а другую половинку водрузил себе на голову. Она и приросла к его голове. В непродолжительном времени у него развилась способность производить в уме сложнейшие вычисления, на пути домой он ухитрился высчитать орбиты всех светил, благодаря чему сумел провести свой корабль сквозь страшные бури. По прибытии матроса в Лондон очень скоро разошлась молва о его доблестях. Королева, повелевшая ему явиться ко двору, пригрозила обезглавить его, коли он не обнажит перед ней головы. Увертливыми речами он сумел умаслить королеву, которая была так восхищена его ответом, что приказала снабдить круглыми шапками всех своих телохранителей, а там и прочих стражей порядка в своей империи.
Кто не желает носить на голове фрукт, тот подыскивает головной убор на нашей грибной плантации. Островерхая шапка подзадоривает фантазию, круглая, плоская навевает успокоение. Тем, кто потолще и подобродушнее, рекомендуют островерхую шапку, а резким, ершистым — круглую. Грибные головы подразделяются на синюшки, зонтики и сыроежки, но инструктаж проходят сообща.
Все свежевылощенные появляются в темной комнате, где узнают сокровенные тайны вокзала. «Вы опускались вниз, все позабыли, а теперь очутились на самом дне», — говорит кто-то из темноты. Мы отрабатываем посадку, бормочем учебные тезисы, каждый про себя: «Я хочу быть саженцем, сидельцем, хочу быть со всеми, врасти в их общество, глубоко в нем укорениться».
На нас нацепляют по паре колокольцев-бубенцов; женщинам привешивают бубенцы между ног, мужчинам — колокольцы на грудь. Теперь мы отрабатываем спаривание вслепую или на ощупь. Мы учимся близости, приводим свои колокольцы в движение, чтобы один прикасался к другому, и, даже когда спаривания не происходит, нам удается звоном приободрить друг друга, разбудить, заинтересовать. Во тьме из сознания мужчин изгоняются яркие образы доступных бабенок, которые некогда запечатлелись у них в памяти, они пронзительно кричат, если предстоит соприкосновение, становятся торопливы или нервозны. Я выбираюсь из смятения, нащупываю последние искорки, сплавляю их в новый смысл, обрастаю новой кожей, даже между пальцами.
Нас одевают — лифтом доставляют прямиком в кабинку для переодевания, где надлежит дожидаться, пока продавец, для которого эта процедура явно привычна, не принесет подходящую одежду, белье, брюки, сорочки. Одежда не форменная, не ярко-желтая и не апельсиново-оранжевая, как я того ожидал, а самая что ни на есть будничная, мода вчерашнего дня, может, просто залежалая. Молодой итальянец твердит, что мне надо носить брюки со складочками на талии, и сам приносит крутые черные брюки, благодаря которым я должен приобрести лихую походку, а в придачу несколько сорочек, открытых на груди. Продавец учит меня, как надо развешивать сорочки и брюки, чтобы заложенная складка не разошлась. Нам должно брать пример с культуры одежды и обслуживания, присущей южанам, которые обрабатывают у нас плоскости соприкосновения — в наших отелях, за прилавками, в магазинах. Эти южане выстроили наш вокзал и сделали его уютным, северян было раз-два и обчелся, да и те выполняли черную работу, а нынче дамы из Южной и Юго-Восточной Европы сотнями восседают за кассами во всех универмагах.
Опустившись на глубину, мы начинаем отрабатывать подъем. Мы толпимся в вестибюле, целиком выдержанном в стиле венского кафе, усаживаемся на мягкие, истертые подушки сидений. Свет здесь в порыве трогательной заботы приглушают, чтобы наши глаза могли привыкнуть к новой обстановке. В Бразилии в качестве топлива использовали кофе, — крупными буквами написано на стене. Кофе свергало королей, которым вздумалось потчевать свой народ алкоголем, из аромата кофе у нас развилась общественная жизнь. Чтобы взбодрить мозги, кофе мы пьем черный и сладкий. Разделительной порцией называют первую чашку, выпитую после долгого сна, она как бы обрезает растрепанные края. Кофе отмеряют со скрупулезной точностью, а расход его заносят в амбарную книгу. Каждый пьет ровно столько, сколько выносит его желудок, пьет вперемежку с минеральной водой и фруктовыми соками, тем самым все расширяя границы возможного потребления. Кофеварка, которую мы ежедневно разбираем и чистим, отнюдь не является для нас собственно источником кофе, это всего лишь насадка с краном. Черный кофе мы качаем непосредственно из труб отопления. В конце концов, все здание работает на кофе, сей напиток можно получить из любого радиатора, он растекается по всей кровеносной системе, и всякий, кто пьет кофе — так нам внушают, — есть неотъемлемая часть вокзала.
Преподавательский состав, поджидающий нас в гигантском освещенном зале, состоит из множества людей, передо мной как бы тело с множеством голов. Далекий потолок состоит из множества светящихся трубочек. Мы купаемся в неоне. Ровный яркий свет, заливающий все вокруг, терзает наши опухшие глаза, которым довелось проплыть сквозь все ипостаси тьмы, и бередит воспоминания. Ни с того ни с сего в голове мелькает последняя поездка по железной дороге: я мирно сидел у окна бело-красного экспресса, сидел, зажмурив глаза, чтобы процедить сумерки сквозь тонированное стекло, а все свои мысли послал к горизонту, где они затерялись средь мельтешащих крыльев несчетных птиц, которых что-то спугнуло с проводов высокого напряжения. Над дремотной зеленью я разглядел бирюзу и пурпур, как вдруг под самым потолком купе вспыхнул неон и озарил ярким светом последний пейзаж. Свет в общественном транспорте не кислотный, как обычно считают, а пронзительно щелочной, он добела размывает переходы красок, смешения, оттенки. Мои глаза прилипли к собственному блеклому отражению, я поневоле наблюдал, как общественный свет норовит высосать, иссушить мой взор. Добравшись до вокзала, я был опустошен.
Вечером — часы общения за красным вином. Все мы суть подвижные мягкие части, пластичная масса, мы учимся обращаться друг к другу на «вы», соблюдаем дистанцию, обмениваемся любезностями, отрабатываем переменчивую игру между притяжением, благосклонностью и соблюдением дистанции, что, в свою очередь, задает такт и меру. Вообще говоря, мы разучиваем старые танцы, с разными партнерами. Искусство сближения передается через учение о лести, причем главная роль в этом занятии отводится благовониям. Вокзальный придворный должен кланяться благоухая. Позорно, если приглашением на танец не создается пара, ведь в отношениях между всеми существует негласная обязанность связи и размножения. Ухажер готовится загодя: согревает постель, прибирается в комнате, стирает белье, а приглашенную даму встречает на пороге всяческими знаками внимания. Для таких случаев рекомендуется приготовить свежую рыбу, живой подать ее на стол, учесть все связанные с этим неожиданности, помнить о них. Свежая рыба — всегда желанное блюдо, порой за нее платят втридорога, проектируются специальные бассейны и аквариумы, ибо лишь свежайшие рыбы плывут от чресел к чреслам. Когда рыбьи косяки отправляются в путь, все приобретает самостоятельное значение; возбуждение можно сносить очень долго и даже претерпеть до конца. Кто мало говорит и не способен вызывать восхищение, тому рыбий косяк не привлечь, а кто говорит слишком много, быстро его отпугивает и, спугнув болтовней, пытается подцепить на удочку своего визави, потчуя его следующей историей. Как-то раз над южно-английским морем была замечена странная туча, затмившая все небо. Это оказалась стая черных птиц, каких до сих пор никогда не видывали у здешних берегов. Потом несметная стая внезапно опустилась на полуразрушенный пирс, накрыла его словно блестящим черным пернатым покровом. Птицы расположились сплошным ковром, зачернили всю зелень крыши, будто бирюзовый водяной храм с люкарками и двускатной кровлей был изначально задуман как посадочная площадка для редкостных птиц. В сумерки любопытствующие могли наблюдать необыкновенное зрелище. Стая разом взлетела, повторяя своими очертаниями форму крыши со всем ее декором, несколько секунд этот удивительный строй сохранялся, а потом начал таять, растекаться, птицы с криком устремились в разные стороны, и небо вновь потемнело. Всех очевидцев охватило желание осмыслить произошедшее, поговорить с рядом стоящими, приукрасить увиденное, волнение росло все время, пока птицы мельтешили в воздухе. Снова и снова отдельные особи пикировали прямо на зрителей, тонкими клювами склевывали влагу из уголков глаз, которую, словно целуя, переносили в уголки пересохших ртов. Своим полетом они соединили стоящих далеко друг от друга, как бы протягивали между ними связующие нити, разжимали склеенные губы, не говоря уже о том, что парочки, пребывающие в затруднении, снова находили правильный тон, будто стая умудрилась отыскать клей, скрепляющий привязанности. В последующие недели птиц этих видели над различными приморскими городами острова, а позднее — в Германии, Бельгии и Голландии. Большинство возникших таким образом привязанностей привело к более глубоким отношениям, одни оказались непродолжительными, другие же, как известно, длятся по сию пору.