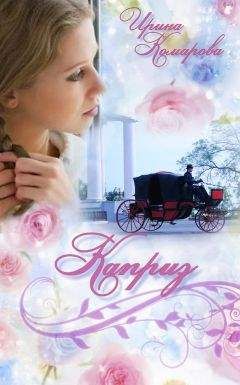Марина, порывшись в сумочке, вытащила проездной и, не в силах идти по эскалатору даже вниз, замерла. Она уже давно перестала смотреть в глаза движущейся массе. Иногда, правда, в ней просыпалось чисто профессиональное любопытство, но ненадолго: окружающие профили походили на некрасивые маски, а гармоничные или безоблачные лица вызывали удивление. Особенно если обладатели их, к тому же, никуда не спешили: Марина понимала, что потихоньку, влегкую так, стервенеет.
«Тридцать три, ну и что, — она ушла в вагон, с удовольствием присев на единственное свободное место. — Хоть сто три», — и раскрыла «Вечерний клуб», но читать не смогла: сплетни о светских тусовках раздражали как никогда, раздражало само строение предложений, раздражали мысли…
Завтра снова начнется следующий день, а она опять ничего не сможет понять, ничегошеньки: «…и не вспомнишь с утра, где деньги, которые еще вчера, а главное — где, с кем и — непонятно зачем — ты пил».
…Тридцать третья весна принесла странное ощущение испачканности в чем-то весьма чужеродном, но не хватало сил на это вот легкомысленное и самое главное: «Ша!», и все катилось к чертям, и Марина каждый вечер заходила в метро «Арбатская» и выходила на «Первомайской», раз в неделю покупая «Вечерний клуб», раз в месяц посещая парикмахерскую, раз в год уезжая куда-нибудь в Джугбу… Вчера, на вечере, посвященном десятилетию окончания института, традиционно сползшем в банальную пьянку, Марина с трудом не расхохоталась, нащупав вместо себя черно-белую фотографию среди цветных. «Но в черно-белой, по крайней мере, есть стиль», — подумала она, и посмотрела с сожалением на экс-звезду курса: Маргаритка Смирнова, в прошлом красавица, когда-то спортсменка и вроде как не дура, продолжила лучшие традиции Наташи Ростовой: куча детей, пренебрежение полное — талией и неполное — всем остальным.
Марина отвернулась, встретившись глазами с Пашкой Казанцевым: лысым, очкастым, в старых ботинках — Пашкой Казанцевым. С ним сидел Женька Никитин с выключенным мобильником, торчавшим из кармана, создавая «Нью-Йорк — город контрастов».
— Еще будешь? — Марина не сразу узнала Леночку Бернстайн в даме, укутанной лисьими лапками назло Green Peace. Марина кивнула и захотела смыться; ощущение чужого праздника не покидало; зачем она пришла сюда, что хотела услышать, к чему все эти разговоры? А по специальности никто не работает — с голоду же можно, если…
Марина опустила голову и улыбнулась кому-то из прошлого уже века:
— Когда нас опять пошлют на Землю, боюсь, Земля нас пошлет.
— Знаешь, вчера мне навстречу шел снег. А другой стоял — под шедшим мне навстречу — с бутылкой пива.
— Давай любить, к черту восток!
— «Он» давно у него. Только любить теперь не получается.
— Тебе совсем… да?
— Да. Давай я буду ходить вся в блестящем и клевать на все блестяшре, как ворона. Из меня ведь получится вот такенная ворона, востоку-западу не снилось! К тому же, я сомневаюсь, нужен ли ты мне уже…
А потом опять не виделись месяцев пять. А потом лет несколько. И Марина никого не любила — сначала месяцев пять, а потом — лет несколько. Да и можно разве кого-то любить, когда кажешься самой себе черно-белой фотографией среди цветных, пусть даже и стильной?! И зачем…
Лицемерие, прикрытое улыбкой, — ничего больше; люди, пытавшиеся урвать у Марины ее саму; потом какое-то странное жужжание, раздавшееся в ней внезапно, и… давайте так, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитое Г. — вместо тоста. Тридцать три, какая разница, талия шестьдесят четыре, любимые писатели всегда Ерофеевы, достать хинин и плакать; не состояла, состоялось, et cetera, улица 16-я Парковая…
Марина вошла в квартиру и, едва сбросив пальто, открыла горячую воду в ванной, мельком посмотревшись в зеркало: ничего нового, только все еще более устало и запущенно. Она усмехнулась, а стукнувшись о краешек раковины, наклонилась вниз.
На полу почему-то валялась ее детская фотография, где Марине было не больше пяти.
— Привет, как дела? — спросила она.
Маленькая пожала плечами:
— Нормально. А твои?
Марина вдруг заговорила быстро-быстро, очень внимательно вглядываясь в глаза ребенка:
— Понимаешь ты, просто — не могу, примитивно! Сложно — тоже не могу, достало. И вообще, я слишком реалистична для вопросов. Риторические как, на что и зачем не могут содержать ответа изначально — ведь я не знаю той самой половины ответа, чтобы задать нужный вопрос! Иногда мне кажется, будто у «близких» они уже не возникают; да те и не ответят, правда? Ведь никто кроме тебя не ответит?
Маленькая посерьезнела и прошептала:
— Никто.
— Но, видишь ли, я не знаю, на сколько меня при таком раскладе хватит, вдруг лимит закончится раньше?
— А лимит в любом случае закончится раньше, — Маленькая ковырнула в носу. — На то он и лимит. Только ты не рассматривай это как стресс. Ладно, я пошла, а то с тобой старухой недолго стать.
Марина схватилась за сердце: тридцать три… А через секунду раздался звонок в дверь:
— Обои отходят… Воды полквартиры… Сейчас милицию вызовем! — долетали до Марины резкие фразы соседей. Младшие по разуму братья могли причинить немало беспокойств, тем более, вода давно текла через край ванны…
Марина захлопнула дверь и, закрыв краны, стала вычерпывать воду, зная, что, если хотя бы легонько, едва дыша, прикоснется сейчас к клавише stop, то хрупкий и вместе с тем стрессоустойчивый механизм ее биомассы даст сбой, — тогда пиши-пропало.
И вот Марина взяла помаду и написала светло-бежевым на зеркале: «ПРОПАЛА», а телевизионная толстая тетка в парике запела арию Виолетты…
«…Можно ли с ним жить? А если и можно, то — нужно ли? О, ч-черт! Горячо!»
Для чего? Что он может дать ей, кроме спины и идиотской ухмылки на немой вопрос глаз, которые он единственный считал обычным явлением?
Даже если он и любил ее — хотя бы на уровне половых желез, — то никогда в этом не признавался.
Марина тоже не признавалась, но ее непризнание было на пару функциональных порядков выше. Недавно Марина сказала ему: «От тебя нет никакой пользы. Ни моральной, ни материальной. Про физическую вообще молчу. Ну да, от тебя идут, конечно, какие-то флюиды… Только… на х… мне эти флюиды, понимаешь? На х..!»
Кажется, ее мат развеселил его, а Марина всегда любила пировать во время чумы — она видела в этом какой-то определенный изыск, поэтому устроила вскоре вечеринку — этакие «проводы» любимого в холостяки, умноженные на два. Любимый напился, вернулся к мамочке, а Марина теперь в одно лицо боролась с бытом.
Когда, казалось, нигде уже ничего не текло, и даже тапочки были выжаты и чинно поставлены на батарею сушиться, в дверь снова позвонили.
— Кто? — глухо поинтересовалась Марина.
— По вызову.
На пороге стоял юноша лет осьмнадцати, до неприличия красивый, с теми самыми чертиками в глазах, которые сначала поднимают Женщину до небес, а потом сажают на мель, и часто — до климакса.
— Кран сорвался, прокладки старые… — объясняла Марина юноше под осьмнадцать, а тот смотрел непонимающе.
— Вы — Марина? — спросил наконец он.
Марина кивнула:
— А вы — сантехник?
Глаза осьмнадцатилетнего юноши выражали абсолютное недоумение, а потом он расхохотался: «В некотором роде»; назвал ее адрес, имя и дату. Сказал, что любит за деньги. Что был вызов на этот адрес, и что если ей не жаль времени, а за час он получает сто пятьдесят баксов, то…
— Погоди-погоди, — Марина схватилась за голову. — Какие доллары, какие вызовы? Тебе сколько лет? И вообще, я никуда не звонила…
— Но адрес-то ваш, — упорствовал юноша.
— Может, кто-то пошутил? — недоверчиво покачала головой Марина.
— Может, — ответил Порномальчик, — но, если так, я могу взять с вас вполовину меньше…
…Марина села на стул и начала тереть виски.
— Послушай, мне тридцать три, я сегодня вспомнила, понимаешь, вот, тридцать три, мой экс-любимый — моральный урод, я сегодня поняла, ну, что еще, у меня скучная нормально оплачиваемая работа, две несчастных подруги и дрянная сантехника, я ничего не хочу, а тут вот приходишь ты и несешь какую-то чушь…
А Порномальчик вдруг сказал:
— А знаете, я на самом деле подрабатываю. Я ведь в Политехе учусь, а сам с Казани; просто жрать хочется, а баб… ну, женщин… одиноких, много… Вот устроили друзья в агентство…
— И скольких ты за день осчастливливаешь? — безэмоционально поинтересовалась Марина.
— Ну, когда как: обычно — двух, в выходные — до трех-четырех доходит. Четыре уже многовато.