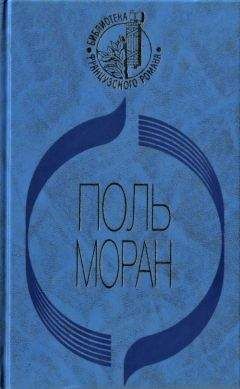— Мой вам братский поклон, господин председатель.
— Братский — это хорошо, шевалье, хотя французы всегда ненавидели друг друга. Что касается свободы и равенства, то эти два понятия идут рука об руку; свободу мы выбираем сами, а равенство приходит к нам извне; первую рождает терпимость, второе — принуждение. Чтобы навязать равенство, нужно сначала создать полицию, которая служит для того, чтобы обуздывать безграничные притязания индивидуальности, называемые свободой.
— Здесь, в Нанте, вы можете произносить такие слова даже на улице, но в Париже они могут стоить вам головы, господин председатель.
— Ну так да здравствует Нант, сударь!
Председатель суда де Вьей Ор, сохранивший независимость положения и дух фрондерства, присущий старым судам, когда они еще назывались парламентами, направлялся, как обычно в воскресенье утром, вместе с шевалье д’Онсе (ставшим из предосторожности более года тому назад, — а именно, после 1791 года — просто господином Донсе) в особняк Бабю де Салиньи. Мадемуазель де Салиньи устраивала в тот день утренний прием на английский манер, точнее — дообеденный прием в тесном кругу, посвященный искусству и иным духовным наслаждениям. Там встречались едва ли не все, кого в Нанте считали сторонниками просвещения.
В отличие от Бретани, Мэна и Вандеи, Нант не эмигрировал. Он встретил новые события, практически не меняя своих привычек. Революция здесь имела улыбчивое лицо и выражалась в фарандолах, качаниях на качелях, прогулках со знаменами и плакатами, во время которых провозглашались национальные лозунги. В порту военнопленные и черные рабы грузили предназначенные для армии бочонки с соленой говядиной и бочки с порохом. Кафе были переполнены игроками в домино, а набережные — разного рода шарлатанами и уличными исполнителями народных песен. В садах и палисадниках, увитых виноградными лозами, под звуки волынок прогуливались дамы, несущие на головах целые клумбы из живых цветов; их сопровождали господа, напоминающие пастухов на гобеленах. Город гордился своими новыми монументальными сооружениями. Здание биржи, исполненное в греческом стиле, и театр с его портиком из восьми беломраморных колонн заметно выделялись на фоне деревянных домов с нависающими над улицами верхними этажами, старых крыш с полукруглыми навесами, дверей с эллипсовидным верхом, балок, украшенных на концах резьбой, и дубовых лестниц с массивными перилами. Отель «Генрих IV» со своими шестьюдесятью комнатами оставался красивейшей в Европе гостиницей; время от времени можно было наблюдать, как из нее выходит какой-нибудь богатый негоциант в плотной маске, вернувшийся из Америки или с Зондских островов, чтобы инкогнито, словно король, прогуляться по городу в сопровождении слуги-индейца. Несмотря на революцию, в театре, роскошно отделанном и получавшем пятьсот ливров дохода за вечер, дамы и господа выставляли напоказ чуть ли не все сокровища Африки и Азии. С верхней части лож были стерты гербы, но имена аристократов рядом, в картушах, сохранились; ложа мэра, находящаяся у самой сцены, напоминала триумфальную колесницу, а вокруг консула Соединенных Штатов толпились люди, называвшие себя не просто «буржуа», а с гордостью — «буржуа Нанта».
В это воскресенье, совпавшее с днем Всех Святых, жители города получили право и свободу где угодно играть в волан или в волчок, а также обрели равенство в фарандоле и братство в лицезрении представлений на любой сцене. Народ пил из бутылок анжуйское вино, барышни буржуазного происхождения освежались из стаканов, как в разгар лета, смородиновой водой, а нантский высший свет, обитавший между особняками Перре де Вийетре и Трошона де Лорьера, как и в прежние времена, продолжал, перекидываясь в реверси, услаждать себя чаем.
Председатель суда выглядел намного моложе своих пятидесяти шести лет: его волосы под париком с тремя локонами были слегка покрашены, он носил заколотый бриллиантовой брошью галстук из плиссированного батиста, короткие штаны из черного плюша, фрак из черного бархата, не допуская в одежде никакой оригинальности, за исключением разве что узорчатого жилета. Он терпеть не мог, хотя был уже в летах, когда его называли почтеннейшим стариком Вьей Ор. Его речь была осуждающей, взгляд — расследовательным, и даже нос его выглядел арбитражным; ну а его белые, подрагивающие веки напоминали белок сваренного вкрутую яйца. Он слыл в городе лучшим рассказчиком и был желанным гостем во всех салонах. Весьма злоречивый, он превращал даже самые свои мимолетные замечания в нечто, напоминавшее мотивировочную часть судебного постановления, и, казалось, обвинял все общество в целом. Каждые десять шагов он останавливался, чтобы высказать суждение, рассказать жестокий анекдот или извлечь, как извлекают понюшку табаку из табакерки, какую-нибудь цитату из Ювенала. Подражая во всем последнему, он считал себя нантским Ювеналом.
Пытаясь разрешить антиномию между понятиями «свобода» и «равенство», ставшую предметом его постоянных волнений, председатель стукнул по мостовой своей большой тростью, сквозь набалдашник которой, для удобства, была продета золотая цепочка.
— «Libertas aut egahtas»[2] — так ведь у Ювенала? — произнес он, сунув шляпу под мышку, дабы освежить голову, потевшую на солнце под париком с тремя локонами. — «Aut» означает, что нужно выбирать.
Шевалье д’Онсе слушал, задрав голову, и был похож на разорителя дроздовых гнезд на какой-нибудь висящей в простенке картине, отчего его адамово яблоко сильно высунулось из кружевного жабо. Его кривые, как у кавалериста, ноги обтягивали замшевые штаны; время от времени он обмахивался своим сшитым из превосходного шелка шапокляком, который было принято называть «американским» и который он никогда не надевал на голову, чтобы с парика не сыпалась пудра; он пытался удлинить свой малый рост и снизу, и сверху, встав на высокие деревянные каблуки и взбив волосы в пучок, а также украсив их париком в виде царской птицы с голубиными крыльями и перевязанным сзади хвостом. В прошлом он входил в нантский совет Вест-Индской компании, и тогда о нем говорили: «Этот молодой человек слишком высокого о себе мнения». Однако Учредительное собрание отменило даваемые советом привилегии, и теперь ему не оставалось ничего иного, кроме как играть на спинете[3].
Председателя суда и шевалье связывали привычки, заменявшие им дружбу: оба они принадлежали к одному и тому же обществу «надушенных» («мускусных») и терпеть не могли женщин, хотя и добивались оба руки мадемуазель де Салиньи. И чтобы понравиться ей, они стремились не отставать от новых гуманитарных веяний: увлекались теофилантропией, стали завсегдатаями читальных залов, выступали с речами в кружке Друзей Конституции, душой которого была Парфэт, и не пропускали ни одного из знаменитых воскресений в особняке Бабю, прозванных нантцами «мессой талантливых людей», где любили декламировать оды Прогрессу и играть в корбильон с идеей Бога.
Господа де Вьей Ор и д’Онсе и не помышляли об эмиграции, ибо никогда еще в Нанте не было столь приятно. Социальные потрясения способствовали тому, что председатель суда называл «салонными усладами», ибо, не отказываясь от светских удовольствий, председатель и шевалье с затаенной нежностью предавались, в качестве членов Общества друзей негров, освобождению и разведению негритят.
Их совместную прогулку весьма оживляли сплетни. Не спеша обмениваясь последними новостями, словно переставляя фишки при игре в триктрак, два друга шли сквозь нантскую толпу, традиционную пестроту которой усилили новые времена: к конопатчикам добавились национальные гвардейцы, к испанским лоцманам, английским капитанам, португальским юнгам, цветным рабам, батавским негоциантам, корабельным кокам, матросам и торговкам устрицами то и дело подмешивались мародеры, маркитантки и, наконец, ораторы из предместья, люди, проповедовавшие что кому в голову взбредет. Из-за голов доносились хлопки открываемых бутылок с лимонадом, слышались обрывки танцевальных мелодий, наигрываемых на волынках.
Приятели покинули набережные и постепенно выбрались из толчеи. Улицы, по которым они теперь шли, были столь тихими, что председатель, только что кричавший пронзительным голосом, наскакивая на фразу, словно ножницы на точильный камень, смог наконец сбавить тон. Они миновали особняк маркиза де ля Шероньера.
— Вот еще один запертый дом: маркиз в Кобленце. Он все-таки дурак, уезжать никогда не нужно, — заявил господин де Вьей Ор.
— Ох, как же нескоро мы теперь будем вкушать утиный соус времен покойной маркизы! — вздохнул д’Онсе, известный своим гурманством.
— Мадам де ля Шероньер была самой очаровательной сифилитичкой 1740-х годов, — добавил председатель суда. — Маркиза заразила всю Европу, но с какой же душой она это проделывала!