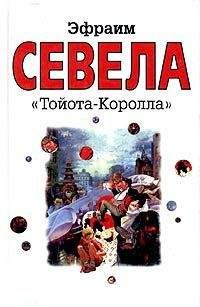– Значит, у нашей крестик на мордочке. А я не знала, что их столько здесь… водится. За что ты их любишь?
– За то, что они не спрашивают, где водиться.
– Только этот руль… Вот если бы можно было переставить. Так… У тебя что-то с носоглоткой?
– Да ничего… Просто тогда все пропадет…
– Непонятно, что – все… Ладно, буду просто смотреть на улицы. По одежде и машинам можно точно сказать, как живут люди…
Они остановились на светофоре рядом с обшарпанным домом.
Блекло-зеленая краска свисала с него мертвыми сырыми листьями.
Некоторые скрутило в трубки, и их испод был бледно-сизым. Рядом тянулась теплотрасса в пучках стекловаты и клочьях серебрянки. Из-за ее колена, переваливаясь на кочках, выезжала серебристо-голубая машина.
– А здесь как-то странно… Вот что этот… корабль тут делает?
– Это не корабль, а “Тойота-Краун-Эстет”. Представительский универсал. Турбодизель. Четыре Вэ Эс – все колеса поворотные.
Нулевой год.
– Как нулевой?
– Двухтысячный. Так говорят.
Вдоль теплотрассы с неестественной деловитостью шел смуглый труп человека, босой, заросший и сутулый. Одет он был в тряпку и в руке весело держал блестящую от грязи котомку.
– Какое-то слепое слово. Будто все, что до этого, обнулили…
Господи, что с ним?
– Его обнулили.
Красноярск Женя любил. Он вообще понимал такие города, для которых главная задача – поместиться со своими заводами и промзонами между горами и водой, и где эти горы никогда не ослабляют своего излучения и маячат дымно и отрешенно в просвете прямых улиц. Где все упрощено до символичности, и в трех метрах от банка или администрации сурово и грубо сереет земная твердь, и улицы еле лезут в гору, из которой глядят то камень, то красная древняя глина. Где рядом с серого бетона коробками живой памятью лепятся, косо утопая в грунте, пыльные сибирские домишки со ставнями и заборами, прокопченные, засаленные и пропыленные.
Где с берега обступает такая студеная и туманная синева, что поначалу и неясно, где несется стальная река, а где встает гряда мутно-сизых сопок по-над ней и откос последней освобожденно обрывaется к северу.
Где уют трех главных улиц кажется схематичным и условным, и речушка кипит со стеклянной независимостью по грубым булыганам и ржавым железякам, и где так напирают камень и глина, что кажется: город вот-вот расползется под их скупым напором.
И где не успел накопиться перебор людской энергии и еще не пожрала сама себя безглазая плоть города, служащего лишь вынужденным местом сосуществования и сводящего к нулю и людей, и смысл, и историю… И давление бессмысленности и духоты, жмущее с неба гигантской плитой, так же клинически-свинцово, как слово “гипермаркет”.
Они с Машей мчались по набережной. Ярко горело вечернее солнце, и
Маша опустила козырек у лобового стекла и чуть добавила звука в приемнике. В ее облике, прическе, одежде тоже было добавлено еще на деленьице, но запас оставался, и лицо светилось в полсилы. И на
Маше, и на Жене были очки, и стекла машины тоже были коричневатого затемнения, и от этого вся жизнь обретала победной налет.
В магазине Маша отобрала охапку брюк. То зернисто-, то матово-черные, они сыпко сползали с вешалок, и она пробовала ткань, то царапая ногтем, то катая меж пальцев, словно проверяя на материальность. И, стоя у зеркала, прикладывала к себе, щурясь и глядя отстраненным и собранным взглядом, пока рядом терпеливо и внимательно дежурила девушка с табличкой на кительке.
Зашла в кабинку, через минуту отодвинула занавеску и, звонко крикнув: “Ну как?”, подтянула брюки за пояс, и тогда завернулась черная блузка и открылся подобранный живот, впало сходящий по кромке ребер и нежно, по двум пластам мышц, рассеченный ложбиной.
Они еще долго ходили, пока Маша, подняв всю обслугу магазина, деловито цокая каблуками, наконец не выбрала черные, какие-то особенно гладкие, тонкие брюки. Уже выходя, она задержалась у зеркала, тряхнула светлой гривой, втянула щеки и подала вперед губы:
– Б…ский вид? Да? Пойдем…
Совсем поздно в баре гостиницы сидела расслабленно и в приступе вечерней словоохотливости расспрашивала, задумчиво поблескивая глазами:
– И кого ты возишь на своей машине?
– Кого не вожу, проще сказать. Американских староверов, дельцов, проституток.
– А у тебя были проститутки?
– В каком смысле?
– В самом прямом.
– Почему ты спрашиваешь?
– Может, я ревную. Шучу. Вы с ними не целуетесь, я надеюсь.
– С ними никто не целуется.
– Бедные. Они, наверно, хотят, чтобы их поцеловали.
– Наверно, хотят, но сами не целуются, пока их не поцелуют. Они боятся. Заразиться. Только если их кто-то сам заразит. Своей отвагой, что ли. У таксистов с ними своя дружба. И мы, и они – все на охоту выходят.
– Хм… Ты тоже охотник. И как ты охотишься?
– Двумя способами. Либо скрадом по городу: едешь по улице, ищешь пассажира. Но это больше дело случая. Либо капканами на жэдэ вокзале или на Взлетке.
Снова сдулись нежные меха.
– На плавник акулы?
– На плавник акулы.
– И какая самая ценная… добыча?
– Самая ценная, это чтобы не тыркаться по городу за копейки и в пробках не стоять… Куда-нибудь подальше. Хоть в Абакан или в Канск.
В Уяр… Или в Танзыбей.
– Куда-а? – спросила Маша с тихой опаской.
– В Танзыбей. Это поселок такой в начале Саян. Там почему-то у всех знакомые. Ты поедешь в Танзыбей?
– А сколько туда?
– Отсюда почти шестьсот.
– Как от Москвы до Петербурга. Не знаю. И часто такая добыча?
– Да не особенно.
– Значит, хорошую работу тебе твой брат подбросил?
– Хорошую.
– А ты сразу согласился?
– Да нет. Не сразу. Что-то тянул…
– Небось думал: москвичи. Надурят.
– Да нет. Оно понятно, что в Москве жизнь… ну более зверская… Не в этом дело. Просто прикидывал… что да как… А потом позвонил Андрею, и он сказал мне рейс и еще сказал, что… таких…
– Зверей…
– Да… нельзя упускать.
– И ты пошел на охоту?
– И я пошел на охоту.
Маша помолчала. Принесли горячее. Потом чайничек с чаем. Помешала сахар, поднесла чашку к губам, сделала медленный глоток.
– И как твоя охота?
– Можно я отвечу историей?
– Нельзя. Ты мне будешь голову морочить…
– Не буду.
– Ну хорошо.
– Есть птица, называется “глухарь”.
– Ну знаю. Это петух такой лесной.
– Петух такой лесной… У него нет зубов, он желудком жует…
– Что-о?
– Ну правда, не смейся, у него там камешки. Он по осени, пока снег не лег, эти камешки и клюет. Пополняет запас. На бережок вылетает и клюет.
– Бедный.
– Почему бедный?
– Какое-то неуютное занятие.
– Занятие как занятие. В общем, однажды пошел человек на охоту и принес глухаря, дома желудок вскрыл, а там золото. Так прииск и открыли.
– Ладно, положим, поверила. Что дальше?
– Дальше ничего.
– Как ничего?
– Так. Все уже есть.
Маша вдруг покраснела. Меха сдулись так, что в них больше не осталось чудного теплого воздуха – ни в самых маленьких закутках, ни в самых сокровенных глубинах. Потом спросила совсем тихим крадущимся голосом:
– И что это значит?
– Это значит, что я нашел свое золото.
На следующий день он отвез Машу на встречу с Фархуддиновым. Она была в темных очках и в черном костюме.
– Ну я пошла… Созвонимся. Ты куда сейчас?
– На Правый берег.
– Зачем?
– Сделать стойку.
Маша вдруг улыбнулась:
– Хочешь скажу наглость? По-моему, ты ее давно сделал.
– Хм… Как только тебя увидел. Удачи тебе.
Издали горы поднимались высокой грядой, а дома и заводы ютились у их ног. Когда он подъехал, горы скрылись, залегли и серыми скалами теплоцентрали встала промзона, заклубилась угольной пылью, разбитой дорогой, по которой вдруг прогрохотал допотопный карьерный самосвал.
Сколько он перевидал за свою жизнь складов, путей с тепловозами, портов и заводов! Дорог мимо переполненных помоек, жилых коробок с загаженными подъездами, с исписанными и подожженными стенами.
Провонявших мочой лифтов и железных дверей, за которые люди ныряют измученно, как в логово.
Некоторое время он ехал сквозь склады и гаражи, пока не добрался до бетонной коробки. На крыше стоял автомобильный кузов.
– Где Влад? Я ему звонил.
– Геша, где Гнутый?
– Отъехал. Щас будет.
– Але, Влад, ты где? Понял. Жду.
Мертвая, перебитая пополам “Виста-Ардео” стояла укутанная в полиэтилен. Женя поднял пленку, вместо левой передней дверцы зияла огромная вмятина-труба, и в ее поверхность была вдавлена кора тополя. Стекло было, как зеленоватый и гибкий лед, иссеченный в мелкую сетку, или как сеть на зеленой осенней воде. Напротив водительского сидения стекло выперло белым пузырем.
Раздался глухой рокот пробитого глушителя, и появилась