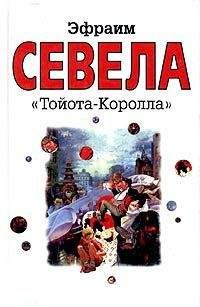Оно может быть и скудней, и голодней, но как-то святей, крепче… А вы так далеко от всего этого, не по расстоянию, конечно, а по духу, что если вдруг какой-нибудь остров сорвет с якоря штормом и поднесет к устью Невы, то там его не узнают.
– Вот о чем фильм надо снимать.
– И как он будет называться?
– “Тойота-Креста”… – Маша задумалась. – Ну “Тойота-Креста”… и… и?
– И другие…
– А другие – это кто?
– Ну там “Короны”, “Чазеры”…
– “Ниссан-Дурачок-Абсолют”… Другие – это мы. Мы же теперь другие?
– Совсем…
– Про что он?
– Про человека, который живет на Енисее и гоняет в Красноярск машины из Владивостока…
– И знакомится с московской девушкой. И рассказывает ей про остров… как…
– Танфильева… А для нее это так далеко, что она не хочет ничего знать и уезжает. И он едет к ней в Москву… чтобы привезти ей немножко…
– Обратной правды…
– А она работает на телевидении. И очень любит ездить по магазинам на сытой немецкой машинке и собачиться с продавщицами…
– А-ах! Как тебе не стыдно!
– И каждые выходные ходит в клуб. Там прозрачный зеленый пол и такая монотонная музыка, что кажется, ворочается ротор. И белые рубашки горят с лазерной яркостью в синем луче, и лица кажутся химическими и ненатуральными… А он едет и едет… Тюменские ребята, которым он не хочет платить, разбивают монтировкой фары, и на стоянке в Челябинске
“КамАЗ” сминает багажник, и оттуда вытекает охотский туман… И, когда он приезжает в Москву, от машины ничего не остается, как у того старика от его рыбы. И сам он так меняется за дорогу, что…
– Что девушка становится ему не нужна… Хм… Но ты все равно приедешь за мной в Москву на белой “Кресте”?
– Все равно. А ты правда вернешься?
– Правда. Если ты меня подождешь… И не уедешь в Немуро… Ведь ты не хочешь, чтобы они умерли?
Маша улетела. Была работа, и Женя выезжал сквозь облака на умытую дождем дорогу по сопкам. Туман сначала казался далеким, а после заезда на серпантин наступил огромными живыми клочьями, наваливался медленными пластами и поглощал стеной, крупно клубясь и сеясь почти каплями. А когда отходил, в его молоке проступали свечи огромных пихт и было видно, как медленно повторяет поворот лесовоз с тремя необхватными мокрыми кедринами.
Особенно острым после дождя был запах свежей лиственничной хвои, а возле мангала с шашлыками – дорожный, дымный. В сухую погоду трасса блестела миражными лужами, и глядели сквозь дымку горы, то отступая, то подползая под дорогу, вздымая ее где отвесной тайгой, где замшевыми курганами с черной щепой могильников.
А сколько раз эта же трасса угнетала, давила – холодная, жестокая и сумрачная! Сырой снежной осенью или в черно-белую оттепель слякотно шуршала под колесами, неслась мангалами с сизым дымом, разбитыми машинами, вагончиками шиномонтажа и “КамАЗами” с разобранными мостами, с водилами у горящих скатов. И, когда ночевал в мотеле под
Новосибирском, не стихала и жила своей бездушной и отстраненной жизнью. Всю ночь проносились дальнобойщики и синим утром заворачивали на стоянку, устало шипя тормозами и светясь фарами.
Или Усинский тракт, с двумя снежными отвалами, сахарными хребтами в человеческий рост, и лежащий на боку по-над пропастью бензовоз, навалившийся на кедр, и рядом – на фуфайке спящий тувинец.
И морозным утром крепкий парок выхлопа, и окрестные огоньки, будто протертые спиртом, и запах дымка, и какая-то совсем иная плотность существования. Хрустящие шаги вокруг машины и колесо, которое с шорохом и скрипом поворачивает гидроусилитель. И заднее стекло, оттаивающее полосами.
И как с Севера через Енисейск проносятся все в запасках и тросах заиндевелые “КамАЗы” и “Уралы”. Как-то заехал на гору по зимнику, и там, терпеливо его пропуская, стоял, как на лапах, на огромных колесах “Урал” с почти мальчишкой в кабине. И прохладные деньки осенью, когда все напитано болью, нежностью и склеено такой любовью, что, где не коснись, отзовется по белу свету гулко и призрачно… И непостижимость расстояний и самой жизни на Земле, которая тогда и открывается, когда день изо дня бороздишь ее непомерную плоть…
Лето. Заправка посреди хакасской степи. Горы. Синие ирисы. Полынь.
Великая степная тайна. Вот она – совсем под ногами лежит. Плавится воздух над горячим асфальтом и расслаивается на миражные пласты.
Подруливает праворукий бензовоз “Хино” с надписью “ООО Сангилен.
Оптовые поставки нефтепродуктов”. И представляется плоскогорье
Сангилен на юго-востоке Тувы. А из бака струится марево, и воздух заваривается, и его ведет, а вместе с ним и душу, он стоит на земле и слышит, как сплетаются и расплетаются дороги… Я не хочу быть европейцем… Она никогда не будет здесь жить… А где нет этого воздуха и синих ирисов, я не выживу… Любовь – это когда умеешь быть одиноким, там, где не бывает попутчиков.
От струи бензина, льющейся в бак, воздух все гуще дрожал и плавился, как оргстекло на огне. Едва машина трогалась и набирала скорость, становилось понятным, насколько плотно то, чем мы дышим, и что есть вещи, умирающие при остановке.
За эти две недели доросло-дозрело все то, что должно было дозреть, и заговорилось с Машей, как раньше не говорилось, – легко и спокойно, будто любовь вздохнула и расправилась на все крыло.
…Чем ближе к аэропорту, тем он сильнее немел, чувствуя, как отдалилась Маша за разлуку, и, когда ее увидел, его и вовсе откинуло на тысячу верст. Другая жизнь сквозила в каждой ее черте, она была омыта в ней, как в нежном масле, и сияла мягко и сдержанно.
В серых глазах минеральная зеленца, крупные ресницы едва обозначены тушью. Подстриженные волосы лежат светлым пластом, перелив от русого к белому, опаленному, еще тоньше, просчитанней. Ноги под черной юбкой голые, летние, ремешки туфель плотно оплетают подъем. Ступни небольшие, пальцы собранные, загорелые, ногти темно-брусничные…
Голая рука придерживает чемодан с выдвижной ручкой и латунным замочком.
Опустив ресницы, подставляет щеку, издает понимающий и отстраняющий стончик. Говорит про духоту в самолете. В машине, когда он берется за рычаг автомата, осторожно кладет кисть ему на руку:
– Ты скучал?
– Я чуть не спятил. Мы поедем в твою гостиницу?
– Да, – нежно и обреченно-тихо.
Без голливудских телепроектов и Каннского фестиваля, без показа мод в Гостином дворе, без банкета в “Балчуге-Кемпинском”, без прохладного офиса на Ордынке, без лакового немецкого автомобиля, без просторной квартиры на Кутузовском, без банкомата с теплыми и будто ненастоящими бумажками, без светящихся магазинов с фонтанами, барами и боулингами, без сауны с травами и томно лежащими женщинами, без бассейна с неестественно-изумрудной водой…
Без мечты об умном, преуспевающем и нежном, с местом международного журналиста в Вене, без серебристой норковой шубки, без черного брючного костюма, без сапожек с отточенными в шило носами, без тончайших колготок, без телефона с халцедоновой крышечкой, без часиков на ледяном и плоском змеином пояске, без юбки, шелково скользящей по бедрам, без блузки, электрически липкой и искрящей в темноте…
Без тонкой, как струйка песка, серебряной цепочки, без блеска на приоткрытых губах, без тона на веках и туши на ресницах, без грифеля на расчетливо подправленных бровях, без земляничной жвачки в белых зубах…
Без черных туфель с непосильной оплеткой ремешков, без острых каблуков и стальных подковок. Без черного нежного лифчика с двумя заедающими крючочками. Без полупрозрачных и узких трусиков с черным ободком по поясу…
Она лежала в его руках.
И расступилась податливая глубина, и, как в смертные секунды, навеки приблизились и легли рядом дорожным потоком, цветными жилами – синие ирисы, сталь Енисея и ковер тумана, переползающий остров Кунашир с тихоокеанской на охотскую сторону. Протяжной полосой пронесся белый
“Марк” работы Кунихиро Учидо со стойкой “плавник акулы”, и серпантинное головокружение над пропастью вознеслось меловыми пиками в саянскую высь и оборвалось космическим небом, и звезды запылали среди дня и рассыпались по всему телу золотой и колючей осыпью.
И тихо выступили из синевы стена монастыря и кедр с обломанной вершиной, и было покойно в чреслах, и свято на душе, и голова ее лежала на его плече. Птичьим шорохом, степным ветерком слетело: “Мне очень хорошо”, – и слова, с генетической точностью вложенные во все женские уста, теперь принадлежали только ей.
– Расскажи мне что-нибудь, – попросила она.
И он начал рассказывать про то, как слоисто распластаны пихты на берегу океана и каким йодистым тленом тянет с берега, заваленного японскими поплавками и сетями…
А она уже засыпала, вздрагивая, догорая и тая, как солнце, в своей нежности, красоте, усталости. Губы были приоткрыты небу, как лепестки, и, как лепестки, чуть завиты, он поцеловал их, и они ей не принадлежали и отвечали со вселенской готовностью.