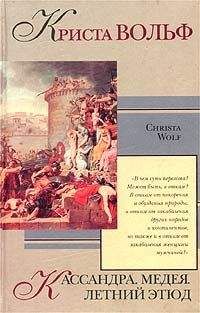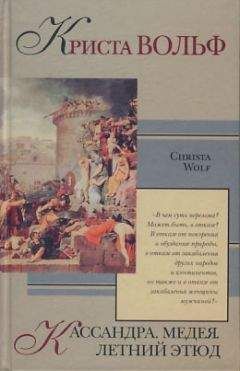— Ты тоже умный человек, Акам, — сказала я ему. — Только ум у тебя особенный, в Колхиде я таких умников не встречала.
— Просто у вас не было в них нужды, — ответил он со своей неподражаемой улыбкой, которая сперва так меня обижала. И наверное, он прав.
Но куда это меня завели дурацкие мысли? Пора наконец встать. Если меня не обманывает зрение, мама, солнечные лучи уже бьют сквозь листья смоковницы почти отвесно, быть такого не может, неужто я провалялась и проспала до полудня, такого со мной отродясь не.бывало. Это все из-за пещеры, не могу подняться, да помогите же кто-нибудь, Лисса, дети… Ну вот, наконец кто-то щупает мне лоб, чей-то голос произносит:
— Ты больна, Медея.
Это ты, Лисса?
Неистов натиск мужей, жаждущих остаться в памяти людской и обессмертить имена свои на времена вечные.
Платон. Пир
Ясон
Эта баба меня погубит. Как будто я всегда этого не знал. «Медея меня погубит», — я прямо так Акаму и сказал. А он даже не возразил, но и подтверждать не стал, как обычно, в своей омерзительной манере. Вечно эта улыбочка, вечно этот взгляд с хитрецой, вечно этот вкрадчивый говорок, когда он заводит речи о том, что уж кого-кого', а меня-то теперь так просто не возьмешь. К чему он клонит? Ясное дело, он что-то прослышал, наш верховный астроном.
— Ты что, Акам, смеяться надо мной вздумал? — напустился я на него, на что он только удрученно покачал головой, своей костлявой длинной черепушкой, так нелепо увенчивающей все его нескладное тело, в котором, кажется, ни один сустав к другому не подходит. «Как же ему, бедняге, приходится пыжиться, чтобы внушительно выглядеть» — так Медея выразилась, когда впервые его узрела, у них с самого начала отношения не заладились, она просто не пожелала ни в чем пойти ему навстречу. Ох, чую я, не к добру все это.
А теперь вот он ей враг. Не знаю почему, похоже, я опять что-то упустил, я все время что-то упускаю в кутерьме этого царского дома, обычаи и нравы которого мне так трудно даются. Столько разных стран, столько гаваней и городов повидал мой «Арго», столько людских лиц видел я сам. А теперь, когда корабль мой на приколе, а спутники разбрелись кто куда, мне остался только этот городишко, здесь мне надо обживаться, и Медее здесь надо как-то устраиваться, вот проклятье. Как будто так уж сложно все это понять. Чем-то она, должно быть, Акама разозлила, иначе не стал бы он извлекать из прошлого и раздувать эту старую историю, в которой к тому же и не доказано ничего. И не пришлось бы мне как последнему болвану представать перед советом старейшин и давать показания по обвинению Медеи в том, что она якобы убила тогда своего родного брата. Меня будто дубиной огрели — я только руки вскинул и заверил старейшин: об этом и речи быть не может. Значит, я убежден, что те, кто ее обвиняют, — лгут?
В какую ловушку я тут угодил, во что она меня опять втянула? Убежден, убежден… С этими бабами наш брат разве в чем-нибудь может быть убежден? Старейшины сочувственно закивали головами. Похоже, на сей раз им нужен не я. А вот она — да. Но она мне жена.
Разве наш брат в чем-нибудь может быть убежден с этими бабами, когда они решают что-нибудь укрыть покровом мрака? В данном случае это следует понять и буквально. Мрак-то и впрямь был непроглядный, когда Медея с этим меховым свертком на руках появилась на нашем причале, больше-то при ней ничего не было, а узелок свой она чуть ли не укачивала, будто у нее там новорожденный. Я-то вообще до последней минуты не верил, что она придет. Ведь я же видел, как она проходит по своему городу с высоко поднятой головой. Как собираются вокруг нее люди, как ее приветствуют. Как она с ними разговаривает. Она каждого знала, и казалось, прямо летит на волне всеобщих чаяний.
Я видел, как она пьет из чудо-источника во дворе дворца, кстати, вот уж диковина так диковина: вода, молоко, вино и оливковое масло текут из четырех его труб, направленных точно по четырем сторонам света. Да, именно так я ее впервые и увидел: склонившись над струей и подставив воде пригоршни, она пила большими, полными глотками. Я пришел вместе с косматым Теламоном — он пусть и не самый умный, зато один из самых неунывающих и спокойных среди моих аргонавтов, к тому же предан мне. Он и теперь вот меня не оставляет. День был уже на склоне, а зной все равно несусветный, просто пекло, нам, привыкшим к морской прохладе, тяжко приходилось, ведь мы только несколько часов как ступили на сушу, на этот берег, к которому столько долгих недель устремляли все чувства и помыслы. Каждый помнил, чего нам стоило сюда, на самый край света, добраться, помнил и товарищей, которых мы в пути недосчитались, и как неодолим порой был соблазн повернуть обратно, и только стыд друг перед другом, а еще перед теми, кто встретит нас дома хамскими насмешками, удерживал нас на веслах и у руля. Там, на корабле, Колхида стояла у нас перед очами землей обетованной, в которой, казалось, заключена вся наша судьба.
Каждому известно: после крайнего напряжения всех сил наступает опустошенность. Так было и с нами — ликование, сопровождавшее нас, когда мы наконец после долгих поисков сумели войти в устье Фасиса, благополучно причалить и сойти на берег этой удивительной природной гавани, вдруг разом прошло. Вот это, значит, она и есть — земля наших надежд. Река, берег, сама местность, эти укрытые рощами и перелесками холмы и долины показались нам вполне обыкновенными — в пути нам случалось видеть места и покрасивей. И хотя никто об этом ни слова не проронил, в глазах моих людей я ясно читал разочарование. К тому же товарищи мои, те, что остались на «Арго», не могли знать, какая участь ждет Теламона и меня, отправившихся искать дворец царя Эета, чтобы предъявить этому незнакомому владыке наши требования.
В тот миг, когда я первым утвердил ногу на берегу этой самой дальней к востоку, самой безвестной земли, — я уже был уверен в своей посмертной славе, и она придавала мне сил. Мы, вторгшиеся в страну варваров, были готовы встретить здесь самые варварские обычаи и укрепляли свой дух, взывая в душе к нашим богам. Но меня и по сей день пробирает дрожь, стоит вспомнить, как мы, миновав заросли прибрежного ивняка, очутились вдруг в роще аккуратно высаженных деревьев, с ветвей которых свисали омерзительнейшие плоды. Мешки из воловьих, овечьих, козьих шкур, жуткое содержимое которых проглядывало, а то и высовывалось сквозь случайные прорехи — человечьи кости, ибо в мешках были развешены и слегка покачивались на ветерке мумии мертвецов, зрелище, невыносимое для всякого цивилизованного человека, который привык хоронить покойников в земле или в скалистых пещерах. Ужас сковал нас по рукам и ногам. Однако надо было идти дальше.
Зато женщина, повстречавшаяся нам в увитом виноградом внутреннем дворе царского дворца, заставила вмиг позабыть о чудовищных мертвецких грушах — наверное, разительный этот контраст еще больше усилил впечатление, которое она на нас произвела. Как сейчас вижу: в красно-белой оборчатой юбке, какие там носят все женщины, в облегающем черном зипуне, склонившись над трубой и подставляя струе чашу своих ладоней, она пьет воду. Как сейчас помню: завидев нас, она выпрямляется, отряхивает руки и непринужденно идет нам навстречу, шагом смелым и твердым, стройная, но и статная, являя такое достоинство лица и осанки, что Теламон, неисправимый похабник, только присвистывает сквозь зубы и успевает мне шепнуть: «Да, вот эта для тебя в самый раз!» От него, конечно, не укрылось, что к темноволосым и смуглокожим девушкам я особенно неравнодушен. Однако тут — этого бедняга Теламон понять не в состоянии — было нечто совсем другое. Какая-то неведомая тяга во всех моих жилах и пронизывающее насквозь блаженное и тревожное чувство, будто меня околдовали — так она и в самом деле меня околдовала. И до сих пор держит во власти своих чар, тут Акам прав. И что мне надо этих чар избегать, не попадаться на ее уловки, тоже верно, ибо она, конечно же, сумеет поведать о смерти своего бедного брата одну из своих невероятных историй, которые так достоверно звучат, покуда она не спускает с тебя взгляда, но на сей раз я поостерегусь и ни за что ей не поддамся.
Странно все это было — наблюдать, как она в знак мира приветствует нас поднятыми вверх ладонями, жест, подобающий только царственным особам или их приближенным; как без околичностей сразу называет свое имя — Медея, дочь царя Эета и верховная жрица богини Гекаты; как повелела нам, словно ей положено это знать, сказать, кто мы такие и зачем пожаловали, и как я, к собственному изумлению, тут же открыл этой женщине то, о чем собирался поведать лишь самому царю. И как сладко и тревожно дрогнуло мое сердце, когда я услышал собственное имя в ее устах. Это потом, много позже, мы вместе гадали о магии наших имен, почему-то именно теперь мне вспоминаются все эти вещи, о которых я давно и думать забыл. На «Арго» мы лежали друг подле друга. Медея назвала меня по имени, но так, будто впервые вообще меня видит: приподнявшись на руке, она изучала меня взглядом, который я, не будь я так околдован, назвал бы непристойным, а потом произнесла — серьезно так, торжественно, словно объявляя о только что принятом решении: