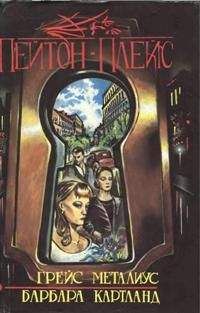Из кармана пальто незнакомца Шутлер извлекает проездной билет трамвайного маршрута номер 12. Эта улика предположительно указывает на то, что молодой человек проживал в еврейском гетто на Южной стороне. Второй билетик датирован первым марта, он с другого маршрута — с Халстед-стрит; вероятнее всего, незнакомец приезжал на Северную сторону заранее — для рекогносцировки. Еще есть листок перекидного календаря от 29 февраля с цифрами: 21–21—21—63; последняя цифра обведена и перечеркнута крест-накрест. Помощник Шутлер с ходу решает, что эти цифры убийца использовал в своего рода лотерее, популярной у анархистов — так они определяли, кому идти на дело. Его подозрения подтверждает и обнаруженный у незнакомца кулек белых леденцов — наверняка, в них яд: молодой человек, несомненно, был готов пожертвовать жизнью ради своей безумной цели. Шутлер также обнаружил за подкладкой шляпы листок из дешевого, судя по качеству бумаги, блокнота со следующими записями:
Туфли мне велики.
Комната моя мала.
Книга — толстая.
Суп мой горяч.
Сам я силен.
Шутлер не сомневается, что это зашифрованное описание этапов запланированного убийства. Как и не находит странным то обстоятельство, что анархист чисто выбрит, скорее всего, побрился этим утром, и аккуратно подстрижен. Одежда на убийце поношенная, старомодная, но от него не пахнет, очевидно, недавно мылся. Людям его круга не свойственно заботиться о своем внешнем виде, — объясняет помощник Уильяму П. Миллеру. — Похоже, он не рассчитывал выбраться живым.
— Я думаю, он еврей, — вступает в разговор глава полиции Шиппи. Фоули, завершая перевязку, зубами разрывает конец бинта на две части. Шутлер расстегивает ширинку на штанах убитого и стягивает их с него, затем то же самое проделывает с кальсонами; случайно поскользнувшись в луже из крови и мозгов убитого, он теряет равновесие и чуть не падает на труп, но быстро выпрямляется и объявляет:
— Еврей, как есть еврей, — тычет он пальцем в пах молодого человека. — Еврейское отродье.
* * *
Сколь ни сильно было ностальгическое любопытство, у меня не появилось особого желания продолжить общение с Ророй на почве национального самосознания, независимости и полного разрыва с родиной. Единственное, чего мне хотелось, это получить от него фотографию, запечатлевшую нас с Сюзи: в моем воспаленном мозгу засела мысль, что успех с грантом напрямую зависит от этого снимка. На банкете Рора сказал, что с большим удовольствием мне его вручит. С непроницаемым лицом старого лгуна я предложил заплатить ему за работу, втайне надеясь, что он откажется от денег и отдаст фото задаром. Увы, Рора оценил свои услуги в захватывающую дух сумму, ни много ни мало — целых сто долларов; впрочем, я бы заплатил и больше. Он обещал позвонить, как только фотография будет готова. Возможно, он поиздержался; а может, из принципа не хотел работать бесплатно. Возможно, мне суждено было в одной из его будущих историй выступить в роли очередного американца-простофили, на котором он играючи сделал деньги.
Что хотите, то и думайте, но, спустя несколько недель — уже наступил май (почти наступил, я хорошо это помню, ведь я отправил заявление на стипендию первого апреля и как раз собирался пригласить Сюзи пообедать), — я, набив карман двадцатками, поджидал Рору в кабачке «У Фицджеральда» (есть такой ирландский паб в Андерсонвилле, на севере Чикаго). Разглядывая развешанные по стенам стандартные фотографии пожарников и копов, сидящих в обнимку с пивными кружками, я испытывал приятно щекочущее чувство, что совершаю нечто противозаконное. Позавтракать в этом пабе я предложил в основном из-за того, что он нравился Мэри; здесь она за кружкой стаута припадала к своим ирландским корням. Рора запаздывал, и я, по своему дурацкому обыкновению, начал беспокоиться, что он не придет. В детстве, когда мы с ребятами играли в прятки, не раз случалось, что ближе к вечеру я прочесывал подвалы и заросли, лазил под машины, гонялся за тенями, в то время как заботливые матери вовсю купали моих сотоварищей, давным-давно бросивших игру и разбежавшихся по домам. Поэтому каждый раз, дожидаясь кого-нибудь, я не мог отделаться от мысли, что этот человек не придет. Иногда мне казалось, что Мэри не вернется домой после работы. Я воображал, что ей до чертиков надоели мои безосновательные амбиции «великого писателя» и смехотворные доходы и в один прекрасный день она просто решит меня бросить; эти размышления неизменно приводили к тому, что я убеждался: да, она больше не желает, чтобы я сидел у нее на шее. Вот и на этот раз, сидя в одиночестве за столиком у окна, я ждал очередного унижения: конечно же, Рора меня кинет. Официантка каждые пять минут справлялась, не объявился ли мой гость; я сам предупредил ее, что жду знакомого. Кто, спрашивается, тянул меня за язык?
Наконец я увидел за окном Рору: идет не торопясь, высокий, худощавый, темные красиво вьющиеся волосы, новехонькая блестящая кожаная куртка, модные зеркальные солнцезащитные очки. Он заметно выделялся в утренней толпе местных жителей, спешащих на службу, дабы доблестно исполнить свой долг. Наблюдая за ним, я вдруг ясно понял то, что давно знал, но не мог сформулировать: Рора всегда был состоявшейся личностью, он научился быть самим собой задолго до того, как мы только отважились задуматься, что такое возможно. Стыдно признаться, но я ему страстно завидовал.
Он пофлиртовал с официанткой, обратившись к ней сначала по-французски, а затем на немецком. Она была родом из глухой провинции, из Палос-Хайтс, и потому Рорины лингвистические способности не произвели на нее впечатления. Заказал хорошо прожаренный чизбургер, ни разу не сказав ни спасибо, ни пожалуйста. Я попросил вафельные блинчики, но увы, таковых не было; пришлось удовольствоваться чизбургером; я предупредил, чтобы его не пережарили. Мы поболтали о том о сем — по-боснийски. Рора много лет прожил в фешенебельном Эджуотере; моя вотчина — разношерстный Аптаун, куда мы с Мэри перебрались после свадьбы. Я заметил: «Странно, что наши пути не пересеклись раньше». Он спросил: «Знаешь, где в Чикаго можно достать самые свежие рыбопродукты? В хозяйственном рядом с 'Миракл-видео'». Один его знакомый босниец поставляет рыбу в лучшие рестораны города. Боснийцам, желающим отведать свежайшего осьминога из Флориды, достаточно ему позвонить и сделать заказ, который тот передаст хозяину этого самого магазина, некоему Мухамеду. У него в подсобке, прямо под циркулярными пилами, всегда стоят ведра с живой рыбой. В магазине пахнет океаном и скипидаром.
И опять, как в той школьной уборной, мной овладело знакомое чувство: на секунду померещилось, что в этом скучном, регламентированном, бездушном мире может найтись место для таких изысканных чудес, как шашлык из мамбы или хозяйственный магазин, торгующий свежими осьминогами. Движимый не так давно приобретенной американской привычкой трезво смотреть на вещи, я усомнился в правдивости Рориных слов и предположил, что это наглая выдумка, но он спокойно предложил мне сейчас же туда пойти и все увидеть своими глазами. Я, естественно, отказался и решил ему поверить. Между прочим, фотография хозяйственного не понадобилась — вот же он, виден из окна.
Прибыли чизбургеры во всей своей истекающей жиром красе. Я болтал с набитым ртом; мы бесконечно пили кофе — чашку за чашкой, от долгого сидения у меня даже задница заболела. Я поведал Pope мою историю: что живу в Америке с начала войны, что пробавлялся случайными заработками, пока наконец не подвернулось место учителя английского как иностранного. Затем наступил черед газетной колонки; я написал о судьбах своих учеников, схожих с моей собственной: как они искали работу, как получали индивидуальный номер налогоплательщика, как выбирали квартиру, как получали американское гражданство, как боролись с ностальгией, как учились общаться с американцами и т. д. Колонка имела успех, но много на ней не заработаешь. Читателям понравился мой откровенно-личный стиль и витиеватый английский. Три года назад я женился на американке. Чудесная женщина.
Это была заготовленная речь из тех, что я выдавал в компании незнакомых людей, если кто-нибудь прерывал затянувшееся молчание дурацким вопросом. Их вряд ли интересовали подробности, и потому я никогда не рассказывал, как мы с Мэри познакомились на вечеринке для одиноких в Чикагском художественном институте. Нас свело не знающее государственных границ одиночество. Мы оба прилично напились, уселись на мраморной лестнице и заплетающимися языками трепались о жизни, искусстве и поэзии. Я удивил ее тем, что смог, правда, переврав, процитировать Филипа Ларкина, а потом чуть все не испортил, когда полез обниматься. Она была сильно подшофе, так что легко простила мою фамильярность. Как две заблудшие овечки, мы доплелись до озера с его белыми барашками волн, плюхнулись на песок пляжа, на который выходит Оук-стрит, и сидели там, пока полицейские нас не прогнали. Эту ночь я провел с Мэри. Год спустя, стоя перед захватывающими дух кувшинками Моне, я сделал ей предложение. Мэри была чудо как хороша; я потерял голову; мы оба были одиноки; она ответила согласием. Первого ребенка мы решили назвать Клодом или Клодеттой, либо, как иногда шутили, Клавдием или Клавдией. Готовя ирландское рагу, Мэри всегда надевает фартук с кувшинками. Иногда мне кажется, что все это мне только померещилось.
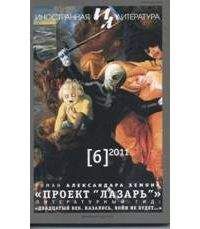

![Линкольн Чайлд - Доведенный до безумия [Gaslighted]](https://cdn.my-library.info/books/no-image.jpg)
![Линкольн Чайлд - Доведенный до безумия [Gaslighted]](https://cdn.my-library.info/books/82283/82283.jpg)