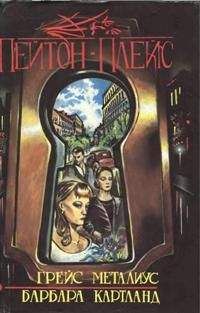Именно опыт гида-фотографа пригодился Pope после того, как он в 94-м через Туннель выбрался из осажденного Сараева. Корреспондент «Вашингтон пост» взял его с собой в поездку в Междугорье: он намеревался написать статью о тысячах паломников, валом валивших туда, где, предположительно, Дева Мария предстала перед непорочными девочками-пастушками. Увлекшись спасением души, добропорядочные христиане не заметили массового истребления мусульман в полусотне миль от этого самого места. Вот как получилось, что Рора оказался в Междугорье под видом хорвата-католика по имени Марио. Он свободно говорил на нескольких языках, никогда не расставался с камерой и поэтому легко нашел там работу: водил толпы верующих на гору, где пастушкам было видение Божьей Матери. Верующие светились счастьем, а Рора их фотографировал. Рора, конечно, слышал про Иисуса Христа — Исуса Криста: знаменитость как-никак, вроде Мадонны или Мела Гибсона, — хотя в церкви никогда не бывал, только понаслышке знал о христианском, да и любом другом, вероучении; по правде говоря, религия его мало интересовала. Дурацкие ритуалы и сказки про очищение души оказались легкими для усвоения; у него ушло дня полтора, не больше, на то, чтобы научиться манипулировать восторженными толпами. Туристы рыдали в тени креста, слушая Рорины речи, в которых он всего-навсего излагал содержание религиозной брошюрки, слегка ее приукрасив. Все эти добрые люди из Ирландии, из Мексики, с Филиппин были в восторге; осененные благодатью, они не жалели денег на чаевые.
Однажды Рора вел отряд престарелых американцев-паломников, прибывших прямиком из Индианаполиса. Благодаря своему неотразимому шарму жиголо и английскому с очаровательным сараевским акцентом, ему не составило труда запудрить старичью мозги. Достигнув места назначения и пролив обязательную слезу, они обратились к Pope с просьбой прочитать молитву на его родном языке, что, несомненно, подразумевало огромного размера чаевые. Он раньше слышал молитвы и знал, что в них всегда упоминается Исус Крист, знал как они звучат, но не помнил ни одной наизусть. И несмотря на это, рухнул на колени, сложил руки, склонил голову — само олицетворение набожности — и начал:
Как по Саве-реке тихо утка плывет,
Тихо утка плывет,
На голове записку несет.
Исус Крист.
А в записочке той слова:
Не люблю я больше тебя…
Исус Крист.
Когда я был маленьким, родители в ходе воспитательного процесса практиковали разделение труда: отец рассказывал мне сказочные истории из своего детства, населенные мудрыми домашними животными, а мама пела колыбельные или читала стишки. В одном из стишков фигурировала утка, переплывающая реку Саву с письмом на голове: «Не люблю я больше тебя — Ne volim te vise». Это письмо всегда вызывало у меня недоумение, и по ночам я много раз пытался разгадать его скрытый смысл: почему именно на голове, чем так важна река, кому это послание адресовано, кого больше не любят? Рорина молитва была тем самым детским стишком с неуместным добавлением имени Иисуса Христа. Теперь, слушая Рору, я понял, что скрытая в этом стишке жестокость в моем сознании неразрывно связалась с жестокостью культа Христа.
Я прекрасно помню, как бабушка с дедушкой заставляли меня ходить в церковь. Они придерживались украинских традиций и сохраняли старый уклад жизни в боснийской деревушке, куда каждое лето родители отправляли меня на каникулы. Охотнее всего я бы сидел и читал книжки, но мне частенько приходилось помогать по хозяйству, поить коров и отыскивать заплутавшего в полях деда. Воскресным утром я обязан был вставать ни свет ни заря, облачаться в брюки, белую рубашку с галстуком и идти в церковь — пешком, через четыре высоченных холма. В церкви сидеть разрешалось только старикам, я же всю службу простаивал на ногах, страдая от жажды, усталости и скуки. Помню, как ломило ноги, а трусы от пота прилипали к заднице. Но хуже всего была похоронная атмосфера внутри, гнетущая торжественность самого действа: хор, распевающий гимны о страстях Христовых, повсюду распятия, коптящие свечки перед иконами, черные от гари стены, вцепившиеся в палки трясущиеся руки стариков, верующие помоложе, опускающиеся на колени, кряхтя от боли в суставах. Все в церкви напоминало о смерти — в тяжелом плаще, костлявой, слепой, глухой и смердящей. Не раз и не два мне случалось описаться (почему в церкви нет туалета?! У Христа, что, не было мочевого пузыря?!) и даже потерять сознание. И кровь текла из носа, и тошнило, все было, не было только сострадания к моим мучениям: как же, мои мучения не шли ни в какое сравнение с муками распятого гимнаста, всем было на меня наплевать. Потом всю неделю меня по ночам терзали кошмары. Я звонил своим коммунистам-атеистам-родителям и умолял их защитить меня от религиозного фанатизма бабушки и дедушки, но родители не внимали моим мольбам. Куда больше, чем мои страдания, их пугала перспектива оставить меня без присмотра (когда старики уходили в церковь) в окружении сельскохозяйственных орудий, ножей и спичек; они больше заботились о состоянии моего тела, чем моей души. Спасение пришло, когда я сообразил, что могу проносить книжки в церковь. Забившись в самый темный уголок, напрягая глаза, я читал, скажем, «В пустыне и в пуще» и воображал себя разгуливающим по бескрайнему светлому пространству свободы, в то время как все остальные каялись в грехах и размышляли о бренности земного существования. Чтение не только помогало мне забыть про физические неудобства, но и приносило огромное удовлетворение — ведь молящиеся ни сном ни духом не ведали о моих тайных занятиях. Вот почему меня так сильно, чуть ли не до исступления, восхитила картина ничего не подозревающих коленопреклоненных американских паломников, с трудом повторяющих за Ророй магические слова, вкупе с образом лишенной любви утки, тихо плывущей по реке.
К тому времени, когда Рора закончил историю про утку-молитву, мы успели перебраться в Аптаун: фотографировали захудалые винные магазинчики; изъеденную ржавчиной лестницу, ведущую к платформе наземки над Лоуренс-стрит; гопников в спущенных чуть ли не до колен штанах; заколоченный местный театр; старые полуразвалившиеся гостиницы, служащие пристанищем для завязавших алкоголиков и психов; и самих психов, с безумными глазами рыщущих по улицам.
— После 9/11 даже эти безумцы стали патриотами, — заметил я. У многих во всклокоченных волосах торчали американские флажки, а один босой субъект аж прилепил себе на лоб наклейку со словами «В единстве — сила». Похоже, все его множественные личности объединились на борьбу с терроризмом. Вера и заблуждение неразделимы.
— В Сараеве тоже был один такой, — подхватил Рора. — Бегал трусцой по всему городу, стоило только утихнуть боям. Бежит себе в майке и красных спортивных трусах. Его пытались поймать и спасти, ведь четники не переставали палить, да разве его поймаешь, летел стрелой. Запихивал себе в рот пластмассовый ярко-желтый лимон, а если лимона не было, то орал как оглашенный. Говорил, что тренируется к Олимпиаде. Однажды на аэродроме он вместе с кучей каких-то людей перебегал площадку перед ангаром под перекрестным огнем четников и миротворцев. И те, и другие стреляли по бегущим, а он со своим лимоном во рту всех обогнал, так и спасся. Теперь живет в Сент-Луисе.
Мы шли по Лоуренс-стрит, как вдруг впереди остановился школьный автобус и из него вывалилась толпа школьников. Я не мог разобрать, что они говорят, слышал только отдельные слова: «А я, в натуре…»Они гурьбой направились к платформе наземки. Двое парней, один в свитере с эмблемой мексиканской национальной сборной по футболу, и не подумав приобрести билет, перепрыгнули через турникет и понеслись вверх по лестнице. Остальные орали во всю глотку; крики стали еще громче, когда над головами у них завизжала, тормозя у платформы, электричка.
— Встань-ка здесь, — вдруг сказал Рора, подтолкнул меня к выстроившимся в очередь к билетной кассе школьникам и, развернув к ним лицом, приказал: — Смотри в камеру. Чуть- чуть левее. Отлично. На них не гляди, смотри в камеру. Так, хорошо.
В своей будущей книге я собирался рассказать историю иммигранта, который сбежал от погромов в Кишиневе и мечтал начать новую жизнь в Чикаго, но был застрелен главой чикагской полиции. Мне хотелось погрузиться в атмосферу той эпохи, увидеть, как все там выглядело в 1908 году, как жили иммигранты в то время. Я обожал рыться в архивах, изучать старые газеты, книги, фотографии, мне нравилось выуживать, а затем излагать интересные факты. Признаюсь, я легко мог себе представить иммигрантские мучения: ненавистную работу, мерзкие съемные квартиры, старания выучить язык, освоить стратегию выживания; знакомо мне было и благородное стремление к самосовершенствованию. Мне казалось, я знал тот мир изнутри, знал и понимал, что в нем ценится превыше всего. Однако, когда я брался за перо, получалось описание костюмированного парада бумажных марионеток, злоупотребляющих символическими жестами: лились слезы перед статуей Свободы, летела на жертвенный алтарь Нового Света завшивленная одежда старого мира и жгучие сгустки крови, выхаркиваемые чахоточными. Я сохранял эти опусы, но содрогался от мысли, что придется их перечитывать.
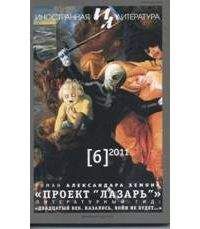

![Линкольн Чайлд - Доведенный до безумия [Gaslighted]](https://cdn.my-library.info/books/no-image.jpg)
![Линкольн Чайлд - Доведенный до безумия [Gaslighted]](https://cdn.my-library.info/books/82283/82283.jpg)