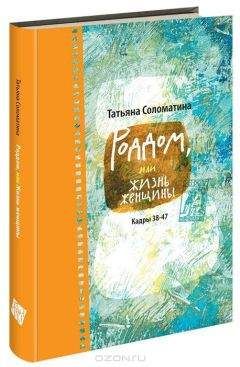И вот теперь она медлила исключительно из заячьей какой-то трусости, внезапно овладевшей ею. Вот уже и сама давно готова. И девочка укутана. Марго с цветами. Ещё недовольная, но с цветами. Это же Марго! Зачем ещё цветы? И так не палата, а чисто оранжерея пополам с галантереей. Каждый считал необходимым приволочь начмеду цветы, конфеты, бухло, подарки в виде детских одёжек и косметики. Кто из любви, кто из хитрости. Кто на всякий случай. Марго всё это хозяйство Мальцевой домой потом оттарабанила. В три ходки уложилась. Ну, кроме конфет и бухла. Это сразу в фонд отделения на правах старшей акушерки конфисковала. Да и что тут скажешь?.. Очень умно женщине после кесарева сечения дарить шоколадные конфеты и алкоголь!
Единственное, что со всей ясностью осознавала сейчас Татьяна Георгиевна, что здесь, в рабочем кабинете, в родильном доме; здесь, где нелегко, и непросто, и неуютно, и никакой зоны комфорта; здесь, куда бы в любой момент не имел полное право ворваться подчинённый или пациент; здесь, где она отвечает за всё — от наличия отвёрток у завхоза до бесценных материнских и детских человеческих жизней; здесь — ей спокойно; здесь — она абсолютно уверена в своих силах, в себе. Необходимость отправиться туда, в мир своей уютной квартирки, где никто не побеспокоит и где она отвечает за единственное, рождённое ею дитя, — пугает, абсолютно вышибает из колеи, лишает возможности мыслить и шевелиться.
Пауза томилась, густела, концентрировалась…
— Таня! — не выдержал Ельский, скосив глаза на малышку. — Мусе жарко.
— Ах да… — несколько растерянно оглянулась Татьяна Георгиевна.
Внезапно резко заболело внизу живота. Неудивительно. Она слегка согнулась.
— Давай мне. Куда ей после кесарева таскать?
— Да я сам до машины до…
— Мне давай! — грозно рыкнул Панин.
Владимир Сергеевич ухмыльнулся в его обыкновенной саркастично-надменной манере — или холодной понимающей насмешки было больше обыкновенного? — и молча передал свёрток Семёну Ильичу.
Панин нёс конверт с ребёнком. Как по тонкому льду шёл, а не по коридору. Лицо его при этом сияло, будто чудо увидел и никак насмотреться не может. И чудо никуда не исчезает — вот что удивительней всего.
Сзади шли Мальцева, Маргарита Андреевна и Ельский.
Как сельди в бочку набившиеся в холл сотрудники роддома делали вид, что они тут оказались совершенно случайно или же по срочным делам. Эдакое сборище лиц, натужно изображающих удивление или же сосредоточенность. И у всех — глаза слегка к переносицам. Буратины хреновы!
И только Зинаида Тимофеевна, старая санитарка, работающая здесь с открытия больницы, фактически — роддомовой[11], помнящая Сёму и Таньку студентами, интернами-субординаторами, перекрестила широкую спину Панина, кинула на Мальцеву укоризненный взгляд, а затем утёрла слезящиеся глаза полой халата. Марго показала санитарке кулак из-за спины.
— Ой, дурные… — ласково сказала Зинаида Тимофеевна процессии вслед. — Девка славная, красивая получилась, тьфу-тьфу-тьфу на неё! А и чего бы у двух красавцев дочери некрасивой быть?
— Так от кого она у Мальцевой? — толкнула её локтём в бок Вера Антоновна, одна из лучших первых родзальных акушерок.
— Да какая разница! У неё все мужики красивые! И дети — они не от мужиков, а от Бога! Бог — он тоже мужик! И тоже красивый.
— Зинка, пора тебе на пенсию, в богадельню. Ты баба, конечно, здоровая, но голова у тебя ржавеет стахановскими темпами! — расхохоталась Вера Антоновна. — Тьфу-тьфу-тьфу — согласна. На всех троих и особенно на нашу Мальцеву. В таком возрасте — и, слава богу, дочечка здоровенькая. И то счастье. Как она только справляться будет? — покачала головой пожилая акушерка. — Нянек-то, понятно, наймёт. Но всё-таки ребёнку мать нужна.
— Ой! Нужна им мать! Я свою дурищу до пяти лет грудью кормила, до десятого класса уроки с ней делала. И что вышло? Ничего толкового! К тридцати у неё было трое детей от разных мужей, к сорока — неврозы и циррозы, а в пятьдесят она развалина у меня на руках. Свою жизнь надо жить, чтобы всей неизрасходованной любовью щенка не портить. Щенку — миска, половичок, не гадить в хате научить и не пустобрешничать. Вот тогда годная собака вырастает.
— Зинка, совсем ты трёхнулась! Людей с собаками сравниваешь…
— Правда твоя, Вера. Собаки куда как лучше! Если уж и устраивают собачью свадьбу, — ткнула она подбородком в сторону дверей, куда вышла процессия, — то хотя бы чувств вокруг этого не разводят!
— Ну вот! То у неё дети от Бога, то — собачья свадьба.
— А это одно другого не касается, — Зинаида Тимофеевна махнула рукой и пошла в приёмное.
Вера Антоновна покрутила пальцем у виска вслед санитарке и выбежала на крыльцо. Чтобы досмотреть шоу.
Панин галантно усадил Мальцеву на заднее сиденье. В стоящую рядом с ней корзину от коляски торжественно уложил дочь. Марго наклонилась к подруге, поцеловала её в щёку и шёпотом спросила:
— Ты как?
— Не знаю. Вообще ничего не знаю, Марго! Боюсь…
— Ты на лошадях ездить поначалу тоже боялась. А потом научилась.
— То лошади. А то, — опасливо кивнула она на корзинку, — человек!
— Да. Человек. И ты — мама этого человека! — строго отчеканила Маргарита Андреевна. И тут же улыбнулась подруге: — Не грусти. Рассмешу. Знаешь, чем отличается лошадь от мамы? Мама не устаёт! Всё, давайте с Богом. Завтра после смены к тебе заеду.
Когда Панин привёз домой начинающую маму с малышкой, у Мальцевой приключилась паническая атака. Сейчас Сёма уедет — и она останется один на один с этим крохотным созданием?.. Трижды она Семёна Ильича выгоняла — и тут же возвращала, не успевал он ещё до машины дойти. Договорились, что пару-тройку дней он поживёт у неё. «Пара-тройка дней» затянулась на месяц. Первую ночь Сёма спал на кухне. Точнее — собирался спать на кухне. Постелил себе на полу. Только улёгся спину выровнять — какой там спать, сейчас опять раздастся рёв! — пришла Танька. Села прямо на пол. Попросила кофе сварить. Расплакалась. Стала жаловаться. И вопрошать — не у него, у потолка, — что теперь со всем этим делать. Это Танька? Точно она?! Панин сварил кофе, налил ей рюмку, обнял, приголубил. Сочувствовал. Но был, признаться, на седьмом небе от счастья! Впервые в жизни он был действительно ей нужен! Танька в нём впервые действительно остро нуждается! По-настоящему. Она и их дочь. Его дочь. Последнее заслоняло для него всё. И когда отдохнувшая минут пятнадцать Мусечка заорала, Семён Ильич как безумный поскакал в комнату.
У Панина прекрасно получалось быть отцом. Или нянем. Разве в таком возрасте нужен отец? Одиннадцатидневным детям нужны высококлассные няни. И у Сёмы всё спорилось. Мыть попу, менять памперс, купать, кормить, носить на руках, играть. Вот с чем там ещё играть?! А Панин гулил, агукал и хихикал как натурально с катушек съехавший. Иногда Татьяна Георгиевна украдкой наблюдала за ним. Никогда прежде она не видела, чтобы человек на человека смотрел с такой любовью. Нет, именно так на неё саму когда-то смотрел Матвей. Но были только она и Матвей. И не было никого третьего, кто мог бы оценить это со стороны. Поэтому так ли это выглядело — неизвестно. А тут здоровый пятидесятилетний мужик под центнер весом смотрит на крошечную трёхкилограммовую козявку! — так, как когда-то Матвей смотрел на неё саму. Некогда её любили. Теперь же Мальцева за такой потрясающей, невероятной, неземной совершенно любовью всего лишь… подглядывает. Так, что ли, получается? Может, у Сёмы и с лактацией бы наладилось, не будь он теперь безвылазно занятой министерской шишкой.
— Посмотрите, какая наша Му-у-усенька краса-а-авица! Самая прекрасная девочка на све-е-ете! — сюсюкал Панин, нежно смывая с головки дочери пену шампуня. — Дай полотенце! — строго командовал он тут же Татьяне Георгиевне. — Нет, ну полюбуйтесь только на папину Му-у-усеньку! — снова завывал он, и, похоже, согласия Татьяны Георгиевны ему вовсе не требовалось.
— Ой, какая наша Мусенька у-у-умница! — токовал Семён Ильич. — Ты видишь, какая она умница?! — он совал пупса Татьяне Георгиевне.
Признаться честно, Мальцева не видела. Как ни смотрела. Красавица — ещё куда ни шло. Ладная, с правильными чертами смешного кукольного лица. Но вот умница?
— Сёма, она не может быть умницей. Она младенец. Она ест, какает, спит вполглаза на ходу и орёт. Бесконечно орёт. Я очень устала.
Как-то само собой, безо всяких инициатив, обсуждений и командного принятия решений вышло так, что Панин стал спать в комнате, рядом с кроваткой малышки. Когда не был в министерстве, разумеется. Мальцева «переехала» на кухню. Даже купила «палаточную» раскладушку. Первый месяц пролетел совершенно незаметно. Особенно учитывая то обстоятельство, что Татьяна Георгиевна вышла на работу всего неделю спустя после выписки. То есть через семнадцать дней после кесарева. И причины тому были рабочие. Ночью ей позвонила Оксана Анатольевна Поцелуева, временно исполнявшая обязанности начмеда, и сказала в трубку коротко и бесцветно: