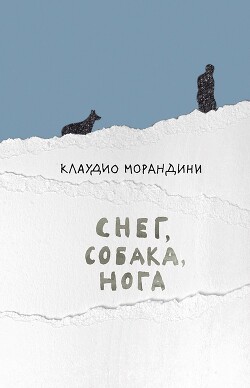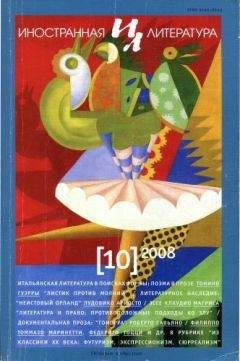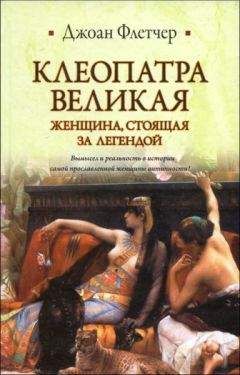— Что, что, что же там? — лает между тем пес, крутясь на месте.
— Человек был, я думаю. Теперь он исчез, из-за тебя.
— В общем, ничего съедобного.
— Ну.
— Что «ну»? А что наш дружок делал?
— Не знаю, мешал.
— А если бы ты его убил?
— О нем бы позаботились вороны.
Конечно, кто ж, как не вороны. Адельмо Фарандола сказал так потому, что не помнит о кладбище за его хижиной, незаметном теперь под слоем земли и травы. Оно было маленьким, крохотным; когда в долине летом жили люди, больше ста лет назад, здесь хоронили пастухов — в деревне еще рассказывают об этом по вечерам, когда темы для бесед исчерпываются и сгущается тоска. В свое время нельзя было просто спуститься в низину и притащить на себе усопшего на главное кладбище. Дорога была трудной, а здесь, наверху, время терять нельзя. Вот тогда, чтобы хоронить умерших в горах, и появилось это кладбище, возникшее стихийно, как кусты чертополоха, даже незаконное, без надгробных камней, с крестами из деревяшек, которые держались на честном слове. Не то что бы на пастбищах часто умирали, но такое случалось, и умирали не от старости (пастухов отправляли в горы молодыми, совсем юными, еще детьми), бывали несчастные случаи, а иногда, хотя об этом и не принято говорить, ссоры с драками после чрезмерной выпивки. И тогда — пара «Отче наш», пара «Аве, Мария», три «Покоя вечных», немного землицы, и налегке снова работать. Эти несчастные пастухи знали, что могут загнуться в любой момент под тяжестью своего труда, и самые смышленые не хотели, чтобы смерть застигла врасплох: когда наступало их время, они приходили сюда, на край уже вырытой ямы, и падали вниз, раз — и все. Ну, по крайней мере, так рассказывали. Священник? Нет, никогда священник сюда не поднимался, ему даже не говорили. Исповедовались потом, по завершении сезона на пастбище, когда возвращался скот, исповедовались, краснея и не глядя на носки своих ботинок. А он злился, и чертыхался даже, и угрожал отлучением от церкви, а потом успокаивался на том, что записывал умершего в приходскую книгу; вот и готово, следующий! В свое время, лет сто назад, поступали именно так. Пастухи все были в некотором роде священниками, знали нужные молитвы на каждый случай, умели и руки сложить как требуется — тем или иным образом. Да, времена были другие — соглашаются все, когда кто-то рассказывает об этом, и пытаются поскорее придумать какую-нибудь другую тему, повеселее, но не могут. В общем, так и возникло это маленькое кладбище, задолго до того, как Адельмино пришел в мир с громким криком.
У пса, который не утратил чувствительности, естественно, не раз закрадывались подозрения, что за хижиной что-то зарыто. Но если Адельмо Фарандола заставал его копающим, он пулял в него камнями и угрожал, что больше не впустит в дом.
— Но там под землей…
— Забудь!
— Я чувствую, что…
— Ни черта ты не чувствуешь! Прекрати, весь луг испортишь. А скотина что потом есть будет?
— Какая скотина? — пес оглядывается.
Там, под землей, на глубине сантиметров тридцати, не больше, его ожидают кости, большие, маленькие, крохотные. Да, это человечьи останки, согласен, но на вкус это же кости, и нечего тут раздумывать. Пес словно видит их сквозь землю — хорошо сохранившиеся, целые; чует их носом, и для него этот дар небес — не скорбный реликварий, а роскошная витрина мясной лавки. Такое расточительство заставляет его скулить жалобно и возмущенно. Но Адельмо Фарандола за ним приглядывает и всякий раз, выпуская его по своим делам и носом поводить, следует неотступно за ним, потому что не нужно псу копаться в траве, а то попортит еду для скота.
Иногда, впрочем, Адельмо Фарандола тоже идет на кладбище и, оказавшись над могилами, замедляет шаг, останавливается. Глядит под ноги — нет, смотрит на то, что лежит глубже под ногами. Там, под землей, думает он, там, под землей… Он топает, чтобы привлечь внимание: нет ответа. Топает снова, сильнее, дольше. Ему кажется, что он ощущает какое-то шевеление, шорох, похрустывание. И он топает, топает снова. Потом начинает опасаться, что напугал их своим шумом, хотя и не знает толком кого.
— А я что говорил! — изрекает пес, подошедший к нему.
— А?
И Адельмо Фарандола топает опять, одной ногой, потом другой, пауза; потом вновь одной, другой, пауза.
— Хочешь, я могу помочь, — предлагает пес.
Удар, удар, пауза, удар, удар, пауза, и опять, и опять.
— Ничего не чувствуешь? — спрашивает человек.
— Устал слегка, — отвечает пес. — Но ты явно что-то другое имел в виду.
Адельмо Фарандола указывает на землю, на траву, которая, к некоторому его огорчению, оказывается вся примята и вытоптана.
— Ничего не чувствуешь? — спрашивает он снова.
Пес не дышит, втягивает язык, поднимает уши. Он чувствует, да. Он тоже чувствует ответные удары, ритмичные, тяжелые. Это стучит его далекий ужин, его витрина, полная деликатесов, зовет его, требует только его. Они стучат снова, из глубин земли, сильнее и сильнее.
— Ну что?
— Нет, друг мой, ничего не чувствую, — пес решает соврать и дождаться подходящего момента.
От ударов по земле Адельмо Фарандола словно одурел. «Что я делаю? — спрашивает он себя. — Почему топчу траву? Это ты мне велел?»
— Я?
Они возвращаются в хижину в вечернем сумраке, наступающем осенью стремительно и мрачно, как ураган. В ушах у обоих все еще отдаются эти ритмичные удары — один, другой, пауза, один, другой, пауза. Эхо ли это топота человека, отдающееся от его барабанных перепонок и звенящее в ушах, или кто-то и вправду отвечает им оттуда, из-под земли, стучит, чтобы поддержать связь?
— Войдите! — кричит Адельмо Фарандола, потому что в этот момент ему кажется, что удары раздаются совсем рядом и похожи на стук в дверь. Он с удовольствием бы не открывал и готов выгнать чужака, обругав его; он только что устроился за столом, устал, растерян, у него все болит. — Войдите!
Никто не входит.
Пес, при мысли обо всех этих костях там, снаружи, о целых скелетах, не знает, истекать ли ему слюной от голода или дрожать от волнения.
Шесть
Пес кажется порой придатком человека. Он держится совсем рядом, отирается у ног, внимательно следит за каждым движением, Адельмо Фарандола даже пинком не может его отогнать, потому что тот, поскуливая, быстро вертится пару раз, преодолевая боль, а потом снова жмется к своему другу.
А иногда, наоборот, непредвиденная надобность влечет его удалиться, опустив морду, легко шагая по следу, который известен только ему одному. И тогда даже громкие крики старика, внезапно оставшегося в одиночестве, не могут призвать его назад. Пес уходит, уже ушел, с поразительной уверенностью он следует какой-то тайной тропой, то прямо, то петляя. Огибает камни, прокладывает путь, преодолевает кусты и обломки деревьев, даже не глядя, полагаясь только на нюх. Вот и ушел, скрылся, удалился. И там он проведет несколько часов и вернется вечером, почти ночью. Адельмо Фарандола услышит, как он скребется в дверь и хнычет, но не откроет — ну, не сразу, чтобы наказать за то, что оставил его одного, предпочел ему какую-то вонь.
«Занятно», — думает человек, обнаружив себя покинутым. Ему одиночество нравится — оно ему даже жизненно необходимо, тут и говорить нечего, но к этому сукину сыну он привязался, и когда тот уходит, человек чувствует, словно что-то умирает у него внутри, время замедляется, а потом и вовсе останавливается, пространство тесной впадины расширяется, становясь бескрайней пустыней, а он сам оказывается среди этой пустыни крохотным, как муравей, как червяк. И все из-за какого-то пса. А представим на минуточку, если бы с ним была душа человечья?! Или, допустим, женщина?!
— Вы сегодня в полном одиночестве? — окликает его лесник сзади как раз в такой день.
От неожиданных слов человек вздрагивает.
— Я про пса. Того, который с вами всегда. Где он?
— Не знаю, — отвечает Адельмо Фарандола. — Шляется. — И, помолчав, прибавляет: — А что, нельзя?