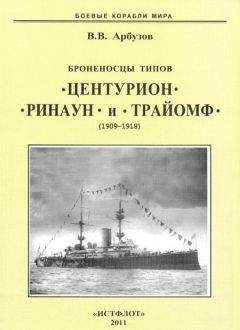— Прощаю тебя, неисправимого балбеса и контрабандиста. И прощаю даже твоих амазонок. Можешь на колени не вставать и не каяться.
Максим с преданной влюбленностью посмотрел на сестру и подмигнул Александру.
— Ты вот что должен знать, Саша. Можно тебя Сашей? Хотел, чтобы ты поверил мне во всем. Я за сестренку горло любому вахлаку перегрызу, если попробует ее мизинцем тронуть. Но она сама с тобой пришла — это поворачивает дело анфас. Я с вами. Мой полуподвал — твой блиндаж. И никаких комментариев.
— Представляешь, Саша, — сказала Нинель. — Максим учился на класс старше, но после уроков каждый день приходил в мой класс, выбирал какого-нибудь несчастного рыцаря с симпатичной мордашкой, для профилактики немножко щелкал его в школьном парке по носу и приговаривал, кажется, такую грубость: полезешь к сестре — нос на затылок сверну, чихать неудобно будет. — Она засмеялась. — Но драки конспирировались. Так ведь, Мак? Так — не улыбайся, как младенец. Только раз он просидел в милиции часа три, выручал отчим, Борис Сергеевич. А мой горемычный кавалер пришел утром в школу с таким раздутым носом, что носище мешал ему читать. Всем объяснял, что в кухне случайно налетел на висящее на стене корыто. Хорошее корыто — кулачки Максима! Он своей ревностью упорно делал все, чтобы вокруг меня создать пустыню. У него один аргумент: не лезь к моей сестре. Чудачок! Вообрази на секунду: если бы он встретил на улице меня и тебя, наверное, дошло бы до обмена мужскими любезностями. Хотя я десятки раз умоляла его быть на сантиметрик разумнее. Он вбил себе в голову, что вокруг меня насильники и шпана.
— Неточность, — заявил Максим. — До сих пор приходилось выяснять отношения со школьными кувалерами и сладенькими паучками из театрального училища, то есть из вашей богемы. Да там и не парни у вас, а черт-те что. Ходят на танцующих лапках, вертят хвостами, вытягивают губки для поцелуев и сюсюкают, как трясогузки: меня не сняли, меня засняли, меня пересняли. Неточность, сестренка, неточность, герань в горшочках презираю, а с фронтовиками не дерусь — продолжал Максим, необидчиво принимая иронию Нинель. — Тем паче, что я отлично догадался, что твой друг не банный лист, не трясогузка, не кувалер с павлиньими перьями…
— Тут ты угадал, братишка! — воскликнула Нинель и взмахнула ресницами в сторону Александра. — Вот, оказывается, Саша, к какому хитрецу я тебя привела! Он ревнив, в маму.
Ему приятно было слушать ее ироническую речь с искорками смеха и журчащий смех Максима в ответ на сестринское подтрунивание, и вдруг Александр почувствовал краткую минуту счастливого покоя, сладким ветерком пахнувшего из детства, когда, просыпаясь на теплой подушке от уже горячего солнца, он слышал из-за двери тихие голоса отца и матери. Голоса звучали в утреннем покое дома, наполненного любовью, молодостью, которая безраздельно принадлежала им, какие бы протуберанцы ни вторгались из эпицентра Вселенной в Замоскворечье, в Первый Монетчиков переулок (цены на керосин, очереди за хлебом), все, мнилось, проходило грибным дождем с солнцем, задевало стороной — вплоть до того последнего утра с июньским парным дождичком, принесшим из кипения солнца и белизны кучевых облаков над Москвой растопыренное острыми пучками, пахнущее железом слово «война», его только раз произнес за завтраком отец. Мать и отец долго смотрели друг на друга незнакомым взором пересиливаемой боли, и, не сговариваясь, оба украдкой взглядывали на Александра.
«У меня не было ни сестры, ни брата, — подумалось Александру. — Но смог бы я быть таким ревнивцем, как Максим? Вряд ли. У меня получилось бы резче».
— Мне повезло, Максим, что ты не решился отколошматить меня, заприметив рядом с Нинель. Это бы нас познакомило, — позволил себе сказать в меру шутливо Александр. — Но тебе, наверное, повезло вдвойне: твоя сестра дикая кошка, которая ходит сама по себе.
— А в Москве убийства, грабежи, насилия, пропадают женщины, — вставил Максим. — Именно красивых кошек ловят в сети.
— Я не кошка, Мак.
— Тигрица! — вскричал Максим с трагической наигранностью. — Ягуарица! Твои острые коготки — для маникюра? Нет, нет! Я сам боюсь ее, когда она начинает фыркать на меня! — И он ударил в заплесневелый медный колокол, прикрепленный к стене, заорал надсадным голосом забулдыги: — Ур-ра! Вперед! Спаси меня от критики сестры, Саша!
— Тише, можно оглохнуть! И перестань карабкаться по деревьям, — возмутилась Нинель. — Во-первых и во-вторых, мальчики, не изображайте шекспировских могильщиков, ушибленных болтовней. Я сейчас ухожу, Саша.
Тогда он подошел к ней и в присутствии ревнивого Максима прикоснулся губами к волосам, ее новой прическе, загораживающей щеку вороненым вензелем, потом поправил прическу губами и поцеловал в висок.
— С Эльдаром надо связаться сегодня. Он предупредит всех. В том числе и Яблочкова. Будь осторожна около своего дома. Там может торчать Летучая мышь. Ушастый мальчик. Лицо у него пляшет, когда он заискивает.
— Эт-то что за представитель мышиной фауны? — подал голос Максим. — Что за троглодитство? Шпион? Насекомое? Соглядатай?
— Что-то в этом роде.
Максим сказал:
— Завтра, сестренка, покажи мне этого летучего ушастика, и я его микрофоны превращу в лепешки. Тихо, дипломатично и мирно. В какой-нибудь подворотне. Больше вертеться не будет. Шапке не на чем будет держаться. А чтоб Александр не сомневался в слюнтяйстве интеллигенции, то посмотри на эту штучку.
Он взял с полочки довольно мощную на вид скобу, играючи подбросил ее, поймал на лету, сдавил в кулаке и швырнул ее, смятую, на полочку, подняв там серую пыль среди гипсовых статуэток.
— Очаровательный хвастун! — воскликнула Нинель и хлопнула в ладоши. — Сделай поклон, поклон зрителям! Геракл и Гектор одновременно!
— Художники и ваятели должны обладать кое-какой силенкой — месить глину, делать подрамники, рубить гранит, — увесисто заявил Максим и, подсмеиваясь над собой, выпятил грудь, растопырил, подергивая бицепсами, руки, как это делают штангисты, отходя от побежденного снаряда. — Замухрышек не люблю в искусстве.
— Браво, братишка, ты даже геройски напряг затылок, как настоящий борец! — расхохоталась Нинель. — Слушай, Мак, я тебя люблю. Ты всегда был моим защитником. Оставляю Александра под твою ответственность. Умоляю: будьте тихими и умными. Если что, автомат у «Авангарда», я приеду немедленно.
Они вышли в коридорчик ее проводить. Она задробила каблучками по лестнице вверх, на тесной площадке перед дверью, улыбаясь, пошевелила на прощание пальцами и, колыхнув юбкой, выпрямив спину, вышла независимой походкой через двор к воротам.
После завтрака Максим походил по мастерской, предварительно с громом свалил немытую посуду в раковину, сказал Александру: «Я часок поработаю, а ты посмотри вот этот рисунок, чтобы не скучно было, потом скажешь, так это или не очень», — затем, не взявши ни красок, ни кисти, не подходя к мольберту, распростерся на диване, заложил ногу за ногу, закурил и надолго замолк. Сначала Александру показалось, что «перекур с дремотой» после завтрака Максим называет работой, но вскоре убедился, что это не так. По-видимому, он обдумывал что-то свое, может быть, нарушенное приходом Александра, изредка перекашивал рыжеватые брови на мольберт, голый, сиротливо пустынный, гасил и вновь закуривал папиросу, и Александр, впервые попав в непривычную обстановку мастерской, подумал, что здесь, по всей вероятности, не унывая, жил вот этот прямодушный, забавный парень, брат Нинель, ничем не похожий на нее. В этой каморке, загроможденной реставрируемой мебелью, с непонятным плакатом «Запрещается запрещать!», на полках происходила какая-то своя жизнь гипсовых фигурок, в онемелых позах выглядывающих из-за керамических кувшинов, в окружении пестрых пятен этюдов лета, осени и зимы, по словам Максима, куцых «щенков» по мысли и чувству. Оттуда глядели черная ночь, над спящим городом мутно-розоватое зарево; далекие окраины Москвы, сугробы, освещенные фонарями; нахохлившийся воробей на карнизе, заливаемом бурными струями дождя, за карнизом — мокрые сучья бульвара; светлая метель на городской улице, пронизанная невидимым, уже весенним солнцем; почти засыпанная снегом фигурка безногого инвалида на тележке, привалившегося виском к облезлой стене пивной. И рядом с инвалидом прикрепленный кнопками листок ватмана, рисунок карандашом: юноша с классической мускулатурой сидит на земле, положив локти на поднятые колени, он глядит себе под ноги, красивые ступни которых насквозь проросли изогнутыми мощными корнями из-под земли, корни, изуродовав икры, атлетическую грудь, плечи, голову, уходят вверх, опутав античный торс, как чудовищными щупальцами удушая и вместе с тем держа юношу прикованным к земле. Рядом, у ног, лежал перевитый корнями автомат. Вокруг автомата рассыпаны стреляные гильзы, торчали впитавшиеся в землю головки снарядов, пробитая, проросшая корнями каска.