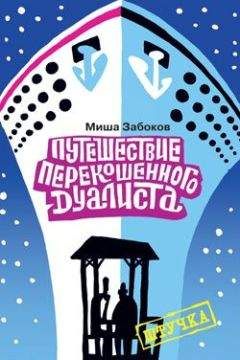— Да, это так, — вновь вяло согласился искусствовед, — но проблема, к сожалению, гораздо глубже. Беда не в том, что стародавний духовный мир диктует нам свои условия, — это-то как раз нормально. Проблема в том, что мы являемся заложниками дурной наследственности. Не кажется ли вам закономерным, что именно в России, где всегда государственные интересы превалировали над частными, а всевластие государства вкупе с религиозным послушанием самих граждан полностью подавило в них способность к самостоятельному и независимому мышлению, только и могли укорениться спасительные утопические идеи, основанные на общественной собственности и товарищеском сотрудничестве во имя всеобщего обогащения трудящихся, начиная со сказочного коммунистического изобилия и кончая облагодетельствованием масс посредством возведения финансовых пирамид? Взять хоть тот же научный коммунизм, пришедший к нам из-за бугра. Ведь он же там не прижился! Зато он прижился у нас.
— Как у нас не прижился выношенный в материнской утробе Прудона, но попеременно вскормленный грудью Бакунина и Кропоткина анархизм, превозносящий свободу личности и отвергающий государственную власть, из которого впоследствии вылупились социалистические рабочие партии, — первые кирпичики в фундаменте современных демократических систем, — продолжил я.
— Кстати, о партиях, — уже более оживленно подхватил искусствовед. — Коммунисты — как партия — сейчас это всего лишь детская страшилка, пугало для ворон. А вот как общественная сила, даже не осознающая своей партийной принадлежности, поскольку заключена она не в коммунистических идеях, а в большевистской психологии общественного сознания, — это может быть надолго, боюсь, как бы не навсегда.
— И какую же роль в таком случае вы отводите, простите, интеллигенции? — чуть дыша и теша себя слабой надеждой, едва вымолвил я.
— Никакую! Интеллигенция — не более чем градусник в ж… больного общества. Если, конечно, вы разумеете под интеллигенцией небольшую прослойку свободомыслящих людей, наделенных критическим складом ума и некоторым культурно-образовательным и творческим потенциалом, что способны, не вставая с дивана, оппонировать власти в контексте выработанных человечеством общегуманистических идеалов и либерально-демократических воззрений. Ведь чтобы ей противостоять, требуются железобетонные мозги, панцирь вместо кожи и дух воина. А воинствующая интеллигенция — по определению невозможна. Это — полная нелепица. Кроме того, интеллигентность в России — а явление это чисто русское, потому как на фига нужны на Западе интеллигенты, коль их с успехом заменяют интеллектуалы — оппонировать-то некому! — служит оборотной стороной нашей кромешной невежественности и одновременно последним светским приютом для здравомыслящей части общества. И если бы, несмотря на свою социальную миссию, эти люди представляли государственную и региональную власть, то исчезло бы вскоре и само понятие «интеллигенция».
Искусствовед замолчал. Он удовлетворенно откинулся на спинку стула, провел языком по пересохшим губам, запрокинул голову назад, но неожиданно снова резко подался к столу и, глядя мне прямо в глаза, зашептал как в горячечном бреду:
— Скажу вам больше. Это только на первый взгляд кажется, будто выбор в пользу православия на Руси — был чистой случайностью. На самом деле…
— Эй, мужчины! Я не слишком вам тут досаждаю своим нечаянным присутствием? — с притворным раздражением напомнил о себе философ. Без всякой связи с прозвучавшим вопросом, лишь оторвав пристальный взгляд от телеэкрана, где в этот момент шла финальная сцена фильма, когда одетый в черный эсэсовский мундир Дирк Богард в роли любовника-палача и Шарлотта Рэмплинг — его жертва — в похожем на подвенечное, белом платье, нежно взявшись за руки, совершали в легкой утренней дымке свой предсмертный променад по мосту, — он уже добавил гневным тоном, не оставлявшим сомнений в искренности чувств: — Ну ни стыда тебе ни совести! Всё шиворот навыворот перевернули. Над святым глумятся. Чем безнравственнее, тем круче. У, пакостники!
Искусствовед, настроенный сегодня особенно неуступчиво, при том что он, по-моему, так ни разу и не взглянул на экран, не замедлил с ответом:
— Аморалку им шьешь, начальник?! А ты не задумывался над тем, почему в буржуазно-демократическом обществе при анализе того или иного художественного произведения или социального явления тамошние критики оперируют не столько этическими, сколько эстетическими или правовыми оценками?
— Какие еще такие критики? — скорее машинально, чем по недомыслию спросил философ.
— Да потому, — будто не расслышав заданный вопрос, продолжал искусствовед, — что они давным-давно уже усвоили: предъявляя эстетические требования взамен этических, общество тем самым признает, что соглашается и впредь мириться с пошлостью и безвкусицей ради сохранения гражданских прав и свобод, а также выражает готовность и дальше терпеть аморальность и безнравственность — конечно, в рамках закона! — в той мере, в какой его устраивает степень собственного демократического развития. И зависимость тут — прямая. Другими словами, этические ценности — это дрова, которыми общество разжигает огонь в топке либеральной демократии, это своего рода ритуальная жертва, с горечью приносимая обществом на алтарь прав и свобод в качестве осознанной платы за обретенную возможность вкушать плоды либерализма. Ты же, как я погляжу, ничем жертвовать не намерен, хочешь остаться совестливым праведником, резервируя за собой привилегию на морализаторство, решая по своему усмотрению такие нравственные проблемы, как разрешение или запрещение смертной казни, эвтаназии, однополых браков, клонирования, но при этом вынь тебе да положь демократию во всем ее буржуазном блеске. Пижонство это, и ничего больше, — приобретать, ни отчего не отказываясь.
В словах искусствоведа было столько страсти, столько заразительного темперамента, что меня уже не удивило, как я сам, против собственной воли, будто под гипнозом, засунул ногу в стремя, взгромоздился на своего любимого конька, хорошенько пришпорил лошадку и, отпустив поводья, помчался вдогонку за искусствоведом, чей резвый скакун нес его сегодня с особенной прытью.
— Типичный случай русского перекошенного дуализма! — благостно констатировал я в оправдание той мелкой трусцы, с какой еле тащился на своей жалкой кляче философ.
По аналогии с другим вероломным предательством, случившимся, правда, несколько раньше, еще в мартовские иды в курии Помпея, я ждал, что с уст философа вот-вот хриплым укором сорвутся в мой адрес обжигающие горечью слова: «И ты, дитя мое!», но поскольку мама родная не дала мне ни малейшего повода усомниться в безупречности своей репутации, а посему о причастности философа к факту моего появления на свет не могло быть и речи, то, скорее всего, мне предстояло услышать столь же пронзительное, однако теперь уже куда менее родственное обращение: «И ты, Брут!» Глаза философа превратились в две узкие и глубокие расщелины, из недр которых он ошалело водил зрачками то на меня, то на искусствоведа, пронзая наши зачерствелые сердца своим незамутненным взором и испепеляя жаром пылавшего в нем пламени наши одеревенелые души, и так он, наверное, еще долго бы продолжал пялиться на нас, если бы в эту минуту не появился молодой бурильщик. Выставляя на стол бутылки и бокал, он протараторил:
— Надеюсь, я ничего не упустил?
— Ну конечно, нашел блюстителей целомудрия, покорно дожидающихся, пока девушке не стукнет восемнадцать! — сердито заметил философ, тут же раскупоривая бутылку. — Пока ты, как черепаха Тортилла, ползал по палубам, эти вольнодумцы до каких-то там несуразностей договорились, и еще бог знает чего. Ну да ладно, сейчас враз наверстаем упущенное!
В строгом соответствии с общепринятым российским порядком равноценного дележа живительной влаги, он мастерской рукой четырьмя легкими и непринужденными движениями в один прием на каждую тару разлил коньяк по бокалам. Его снайперской точности могли бы позавидовать любые конструкторы автоматических линий по розливу жидких продуктов, которым еще надо было учиться и учиться той грациозности, с какой он проделал эту в сущности рутинную, но исключительно ответственную на Руси операцию. «Надо будет в качестве поощрения поподробнее рассказать ему о наших исторических трудностях на пути к цивилизованному обществу», — подумал я, с восхищением глядя на виночерпия.
— Тост напрашивается сам собой, — взялся довести начатое дело до логического конца философ. — Предлагаю выпить за доходчивость, так необходимую для взаимопонимания различных слоев общества!
Все дружно чокнулись и выпили коньяк в один глоток, как водку.
— Так что там насчет несуразностей? — задал вопрос молодой бурильщик, тянувшийся к знаниям, как тянется к солнцу окропленный грибным дождиком подсолнух, однако с той лишь разницей, что делал он это с такой яростной поспешностью, с какой ни один уважающий себя подсолнух не смог бы впитать пролившуюся на него водную благодать.