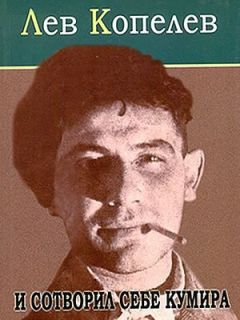К этому правительственному распоряжению годился бы эпиграф: „Сарынь на кичку! Руки вверх! Хлеб или жизнь!“
7 декабря ЦИК СССР постановил изъять из ведения сельских судов все дела „О хищении общественного имущества“. За сельскими судами осталось право судить только мелкие кражи (на сумму не свыше 50 рублей) и только личной собственности.
Это было несколько запоздалое дополнение к закону от 7 августа. Сельские суды не могли приговаривать к смерти и к длительным срокам заключения.[279] А каждый посягнувший на государственную или колхозную собственность – на хлеб! – был потенциальным смертником.
10 декабря было опубликовано решение Политбюро ЦК ВКП(б) провести новую чистку партии и на это время прекратить прием в кандидаты.
27 декабря ЦИК издал постановление о паспортах, которые вводились для горожан, чтобы „лучше учитывать население“, „разгрузить города“ и „очистить их от кулацких уголовных элементов“.
Мой отец и некоторые старики на заводе были недовольны, говорили, что паспорта – подражание царской, полицейской бюрократии; я спорил, возмущался, – как можно даже сравнивать?
А ведь то закладывалась одна из административно-правовых основ нового крепостничества и беспримерной тоталитарной государственности. „Кулацкими элементами“, от которых надлежало очищать города, оказались все крестьяне, уезжавшие из деревни без особого разрешения местной власти. Паспортный режим снова „прикрепил“ крестьян, как это было до 1861 года.
Система обязательных прописок и доныне означает административный надзор над всеми гражданами вообще. И многих, едва ли не всех советских людей, ограничивает в праве выбирать место жительства. Благодаря той сталинской паспортизации 1932-1933 годов, и сегодня можно не пускать крымских татар в Крым, немцев Поволжья на Волгу, месхов и греков в Грузию, можно запрещать политзаключенным, отбывшим сроки, возвращаться в родные места.
Борьба за хлеб в 1932 году начиналась отступательными примирительными маневрами. Так было в мае и в июне.
Но уже в августе наметился крутой поворот. И государство перешло в нервически беспорядочное, яростное наступление.
Все средства пропаганды, все силы районной администрации, партийного и комсомольского аппарата, суды, прокуратура, ГПУ и милиция должны были устремиться к одной цели – добывать хлеб.
Наша выездная редакция была одной из несметного множества наспех призванных войсковых частей – вернее, частичек – [280] паникующего хлебного фронта.
В январе 1933 года заговорил сам Главнокомандующий.
Собрался пленум ЦК; Сталин докладывал. Он не сказал ни слова об угрозе голода. Зато много твердил, что обостряется классовая борьба, а те, кто „склонны к контрреволюционной теории потухания классовой борьбы и ослабления классовой борьбы… перерожденцы либо двурушники, которых надо гнать вон из партии“. Едва ли не главным выводом из его доклада был призыв к „революционнной бдительности“.
В речи „О работе в деревне“ он признал, что, хотя в 1932 году хлеба собрали больше, чем в 1931, но „хлебозаготовки прошли с большими затруднениями“… „объявление колхозной торговли означает легализацию рыночной цены на хлеб, более высокой, чем установленная государственная цена. Нечего и доказывать, что это обстоятельство должно было вызвать у крестьян некоторую сдержанность в деле сдачи хлеба государству“.
Уже Ленин писал о грубости Сталина. Злобно-грубыми бывали почти все его полемические выступления. Однако массовые расправы с крестьянами в 1930 году, ограбление миллионов и насильственную коллективизацию он снисходительно назвал „головокружением от успехов“. О законе от 7 августа 1932 года, который грозил смертью сотням тысяч людей, сказал, что он „не страдает особой мягкостью“. И столь же эвфемически говорил он о неудачах хлебозаготовок.
„Деревенские работники не сумели учесть новой обстановки в деревне“, не предусмотрели, не учли „сдержанности крестьян“ и поэтому „не выполнили своего долга… всемерно усилить и подгонять хлебозаготовки“. Он самокритично признавался: „ЦК и Совнарком несколько переоценили ленинскую закалку и прозорливость наших работников на местах“. Тогда как в противоположность единоличникам, колхозники „требуют заботы о хозяйстве и разумного ведения дела не от самих себя, а от руководства“ (?!).
Он так и сказал без обиняков: „Партия уже не может теперь ограничиваться отдельными актами вмешательства в процесс сельскохозяйственного развития. Она должна теперь взять в свои руки руководство колхозами… должна входить во все детали (!!!) колхозной жизни“ и т.д.
Сталин доказывал, что нельзя „переоценивать колхозы… [281] превращать их в иконы“. Хотя колхоз – это „новая, социалистическая форма организации хозяйства“, но ведь главное – „не форма, а содержание“ (словосочетание „форма организации“ на четырех страницах повторено 17 раз).
Он утверждал, что колхозы „не только не гарантированы от проникновения антисоветских элементов, но представляют даже на первое время некоторые удобства для использования их контрреволюционерами“. И прямо сравнил колхозы с Советами в 1917 г., когда ими „руководили меньшевики и эсэры“, напомнил о кронштадтском лозунге „Советы без коммунистов“.
Тогда я воспринимал эти рассуждения как пример диалектической проницательности. А когда писал и переписывал эти страницы, внезапно стало понятно: да ведь Сталина испугали именно те новые силы, которые пробуждала, могла пробудить коллективизация. Новые объединения крестьян – пусть поначалу и насильственные, искусственные – кое-где становились, могли стать по-настоящему самодеятельными.
Все оппозиции были подавлены, разогнаны по ссылкам и „политизоляторам“ (так называли дальние тюрьмы). Кулаки выселены.
Однако в „сдержанности крестьян“ он ощутил новую угрозу, тем более страшную, что ее носителями были уже не политические и не идеологические противники, не „классовые враги“, а миллионы по-новому организованных бедняков и середняков.
Ими руководили такие люди, как Чередниченко, Ващенко, Бубырь, сотни тысяч „низовых“ коммунистов, которые верили его словам, лозунгам, обещаниям, верили в программу, провозглашенную ЦК, безоговорочно ее поддерживали.
Но Сталин все больше опасался именно беззаветных, бескорыстных соратников, видел в них угрозу для режима, основанного на противоположности слова и дела. Торжественно возглашаемые идеологические принципы все явственней противоречили зигзагообразной „генеральной линии“ государственной политики.
Первоначально планы кооперирования сельского хозяйства и уставы колхозов предусматривали такие возможности общественной жизни в деревне, которые в известной мере были связаны с традициями старой русской общины и украинской „громады“. Эти возможности и традиции не противоречили [282] и тем принципам Советов, которые провозглашались в 1917 году. Но были чужды сущности сталинского правления, которое уже становилось бюрократически-крепостническим самодержавием.
Борьба за хлеб и впрямь была борьбой политической. Независимо от того, насколько это сознавали ее рядовые и руководящие участники. Действительная самодеятельность в „новых формах организации“ крестьян испугала Сталина и его приспешников не меньше, чем их наследников четверть века спустя напугал чешский „социализм с человеческим лицом“.
Инстинкт властолюбца придавал аналитическую остроту ограниченной, доктринерски примитивной мысли Сталина и подсказывал ему достаточно эффективные приемы истолкования и „перетолковывания“ действительности.
В той речи он снова и снова повторял одни и те же обвинения против колхозников и „товарищей на местах“.
А в заключение твердил экстатически-исповедально: „…виноваты во всем только мы (подчеркнуто в подлиннике. – Л.К.), коммунисты… Мы виноваты в том, что не разглядели… Мы виноваты в том, что оторвались от колхозов, почили на лаврах… Мы виноваты в том, что все еще переоценивают колхозы как форму организации… Мы виноваты в том, что… не уяснили новую тактику классового врага…“
(Монарх, возвеличивая единственность своего „я“, говорит о себе мы. В устах генсека „мы“ заменяло „вы“. Это было такое же привычное лицемерие, как обращение „товарищи“, как рудиментарные ритуалы выборов, отчетных докладов и „коллективных договоров“.)
Гипнотизирующе настойчивое повторение простых словосочетаний – постоянная особенность сталинских речей. Так же, как отчетливое катехизисное построение: вопрос – ответ, причина – следствие, посылка – вывод и нумерация тезисов: во-первых, во-вторых…
Прилежного ученика семинарии выдают и другие характерные свойства: интонация начетчика, монотонность псаломщика, инквизиторский стиль обличений – нападки на еретиков, отступников, грешников; чередование показной „кротости“ с фанатической истовостью; обязательные ссылки на „святых отцов“ – Маркса, Энгельса, Ленина и на „козни дьявола“ – зарубежных врагов, троцкистов, кулаков.[283]