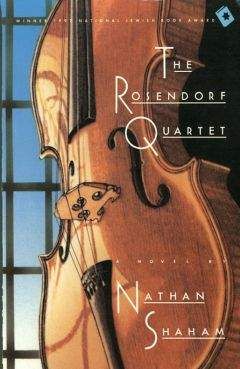— Что с тобой случилось? — спросила Марта. — Ты в последнее время страшно напряжен.
Не скажу, что я постоянно терзался, но все-таки на душе было неспокойно. К тому же я не мог никого посвятить в свои заботы. Марту мне не хотелось пугать. С русским я не мог посоветоваться, поскольку он уехал в Испанию. Товарищи по квартету не могли бы дать мне никакого совета. Больше всех остерегался я Левенталя. Никогда не знаешь, в каком виде он опишет тебя в своей книге. Кроме того, он не водит дружбу с людьми, которые станут болтать.
Под конец мой выбор пал на Хильду Мозес.
Она женщина серьезная, сдержанная и сообразительная. Из тех немного неуклюжих женщин, которые позволяют мужчинам пользоваться своей преданностью и добрым сердцем. Они сами любят больше, чем любят их, и безгранично преданы каждому, кто просит их хранить тайну. Может, и неправильно говорить «из тех женщин», но если есть такая категория, то Хильда к ней, несомненно, принадлежит. Она, правда, немного скучает, поскольку Левенталь развлекает гостей за двоих, ной это на пользу делу. Ей нет необходимости быть интересной, и потому она не станет угощать своих подруг удивительной историей: вы слышали про этого виолончелиста, Литовского, как он запутался?
Она внимательно меня слушала, не выказывая, что думает об услышанном. Насчет Шпигельмана сказала, что понимает его, но не оправдывает. Потом успокоила меня: его угрозы не столь опасны. Организация их мала и слаба, к тому же еврея они не тронут. Ведь им больше всего необходима поддержка населения, иначе невозможно скрываться.
Прощаясь, Хильда обещала помочь — так, чтобы не повредить ни мне, ни Шпигельману.
Я не осмелился спросить ее, как именно, а просто положился на нее, сам не знаю почему, инстинктивно. У меня безграничное доверие к молчаливым и добрым женщинам.
Тем временем от великого плана отказались, и я вздохнул с облегчением. Напрасно отменял я концерт в Иерусалиме, ссылаясь на несуществующие болячки, что вызвало у Марты подозрение, будто я скрываю от нее смертельную болезнь.
Но недолго наслаждался я покоем.
Эвин англичанин, Эдмонд Грэнтли, пригласил наш квартет выступить в офицерском клубе на юге страны, и Шпигельман каким-то образом прослышал о предстоящем концерте. Он сделал мне выговор за то, что я не сообщил ему об этом, и категорически потребовал, чтобы я подготовил описание подходов к офицерскому клубу. Посмеиваясь над идиотским заданием (я убедил себя, что оно было продиктовано бессмысленным стремлением произвести впечатление), я постарался запомнить как можно больше подробностей, а потом записал их. Для вящей безопасности я написал все словесные указания на иврите и левой рукой. Потом мне пришло в голову, что поступил я глупо: меня могут выдать свойственные мне орфографические ошибки. Я получил отличную оценку от Шпигельмана, а попутно убедился, что я и вправду дурак. Комплименты «шефа» были мне приятны, от них приятно сосало под ложечкой. Я был несказанно удивлен, когда Шпигельман приказал мне завязать дружеские отношения с Грэнтли.
— Это принесет нам со временем пользу, — толстый намек главного заговорщика, которого осенила блестящая идея какого-то перспективного плана.
Не могло быть ничего легче. Грэнтли старался проводить с нами как можно больше времени. Он получил превосходное музыкальное образование и не пропускает ни одного концерта нашего квартета. Я не знаю, какую именно должность он занимает, во всяком случае нечто, связанное с разведкой. Кроме того, он дружит с одним из руководителей ишува и с офицером-евреем, служащим в отделе разведки в Египте. Подробности эти сообщил мне Шпигельман, хотя смысл их и не был мне ясен. Я твердо знал одно: нами Грэнтли интересуется не только из-за музыки. Он ослеплен Эвой и ухаживает за ней с тем же фанатизмом, с каким Шпигельман борется за свои цели. Сперва, еще не разобравшись, с кем имеет дело, он пытался завоевать Эву своей преданностью устремлениям евреев, но поняв, что просионистские симпатии не принесут ему особого успеха, англичанин стал снова упирать на свою редкую музыкальную память. На сем пути он весьма продвинулся. Мне, правда, любопытно было увидеть, когда же он на тяжком опыте убедится, что Эвино дружеское к нему расположение, эдакая демонстративная дружба на публику совсем не обещает ему любви и преданности. Этому симпатичному англичанину трудно постичь искривленное сознание полуеврейки, которая пользуется им, чтобы позлить всех, кто требует от нее признать свою принадлежность к еврейству как обязательство перед соплеменниками. Даже Розендорфу неловко поддерживать слишком тесные связи с представителями мандатных властей. У меня нет сомнения, что Эва не любит Грэнтли. Несмотря на свое мужественное занятие, он довольно женственный тип, чистый, деликатный и мягкий, он похож на милую девушку, отрастившую усы а ля Гинденбург. Когда Грэнтли появляется в шортах, открываются его розовые петушиные ноги. Впрочем, Эва готова приласкаться и к головке сыра, если только этим можно кого-нибудь уязвить.
Кому как не мне знать, что она не способна любить никого, кроме себя. Да и себя-то она любит как будто назло. Помилуй Бог того, кого она выберет. Голодным влезет он в нее и голодным вылезет.
Не знаю, суждено ли мне когда-нибудь узнать, что же произошло и как. Во всяком случае, конец был быстрым и драматичным — паническое бегство к концу. Сперва я только почувствовал, что нечто происходит, но не знал, что именно. Двое парней из тех, с кем я познакомился на пляже, были арестованы, а Шпигельман скрылся. Я остался без связи и без информации. Решил жить обычной жизнью, будто ничего не произошло. Но мне не удалось скрыть своей тревоги. Каждый понял ее по-своему. Марта думала, что любовь к Эве, которую я старался в себе подавить, наконец прорвалась в тяжелой форме. Нет никаких шансов убедить ее, что она не права. Она не откажется от возможности отпустить мне несуществующие грехи. Розендорф был уверен, что мне испортила настроение резкая критическая статья по поводу моего исполнения концерта Шумана для виолончели, и трогательно попытался меня утешить. Но ничто не беспокоит меня меньше, чем вздорные замечания музыкального критика. Фридман полагает, и довольно справедливо, что меня тревожит положение на фронтах. А та, кто, как видно, во всем виновата, кажется, совсем ничего не замечает. Да разве мог я ей сказать, что меня беспокоит ее сближение с английским офицером? Он наверняка расспрашивал ее обо мне, и она охотно посплетничала на мой счет, не замечая, что тем содействует чужеземным властям. После того, как Грэнтли словно между прочим спросил меня, не знаком ли я с человеком по имени Иешаяху Злотникер, которого называют также Зелиг Шпигельман, я решил, что служит он вовсе не в военной разведке. Правда, я изобразил непроницаемую мину игрока в покер и попросил его повторить имена, но у меня было чувство, будто удавка сжимается на моей шее. Потом у Марты появились двое неизвестных, которые расспрашивали ее о наших связях с Грэнтли. Я успокоил Марту, сказав, что они наверняка из Хаганы и хотят знать, можно ли использовать наше знакомство с англичанином, но сам я здорово струхнул. После того, как Шпигельмана убили двое сыщиков, ворвавшихся в квартиру, где он скрывался, я стал подумывать даже о бегстве из страны. Две недели я был болен со страху и не выходил из дому даже на репетиции оркестра. Но ничего не произошло, я поспешил к Хильде Мозес — единственному человеку, с кем мог говорить откровенно. Она успокоила меня: не Хагана выдала Шпигельмана англичанам, но все же не могла определенно сказать, не из-за моей ли ошибки удалось англичанам выйти на него. Она посоветовала мне было на время спрятаться в одном из киббуцов, но, подумав хорошенько, сама отбросила эту идею. Мое исчезновение из оркестра привлечет внимание и станет для товарищей Шпигельмана доказательством того, что я замешан в этом деле. Хильда пообещала мне проконсультироваться в руководстве ишува.
Пока не придет ответ, я живу, как трепещущий лист. Нечеловеческих усилий стоит мне исполнять свои обязанности в оркестре и в квартете. Мысли мои в другом месте. Когда нам аплодируют, мне чудятся выстрелы. Мне чудится, что каждый человек, идущий навстречу по улице, вытаскивает пистолет. Товарищи Шпигельмана вынесли мне приговор, еще не расследовав, виновен ли я. Я ведь сказал Грэнтли, что не знаком с таким человеком, но по его лицу я видел, что он мне не верит. Это была ужасная глупость — искать Шпигельмана в условленном месте, чтобы предупредить его об опасности. Быть может, за мной следили. Почему медлит тот, с кем говорила Хильда? Мне важно встретиться с авторитетным человеком и заверить его, что я не сказал Грэнтли ни одного лишнего слова.
Проклинаю день, когда я познакомился с Эвой Штаубенфельд. Мы все были бы счастливы, если бы Розендорф выбрал себе какого-нибудь серенького альтиста и не упорствовал в желании ввести в наш квартет эту женщину, приносящую несчастье каждому, кто встретился на ее пути.