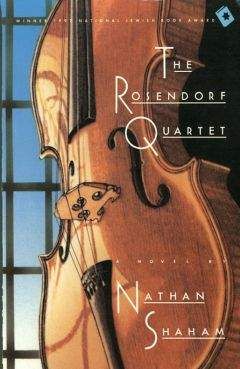Натан Шахам
Квартет Розендорфа
Натан Шахам считается видным представителем так называемого «поколения Палмаха»[1] в израильской литературе, Одной из главных особенностей этой группы писателей обычно называют то, что они уделяют внимание не столько переживаниям отдельной личности, сколько настроениям коллектива, спаянного единой идеологией. Это свойство до определенного времени отличало и творчество Н. Шахама, но книга, с которой мы хотим вас познакомить, является почти нарочитым опровержением расхожей характеристики. Это роман о струнном квартете, состоящем из немецких евреев, которые оказались в Палестине (за одним единственным исключением) в силу необходимости. Их привело в чужую, непривычно жаркую и чересчур пронизанную идеологией страну стечение обстоятельств, а главным образом — невозможность жить и работать после прихода Гитлера к власти на родине, в Германии. История врастания (и неврастания) этих изысканных, изломанных, ни в чем не похожих на прямолинейных сабр — уроженцев страны — людей в новую почву, история их отношений, продолжающаяся в музыке — главной реальности их жизни, а также в «черновике романа» писателя-авангардиста Э. Левенталя, — все это и составляет содержание книги.
Казалось бы, такая тематика предельно далека от писателя «поколения Палмаха», от израильтянина, почти полвека (с 1945 г.) являющегося членом киббуца[2]. Но в жизни и творчестве Натана Шахама черты специфически израильские естественно связаны с обстоятельствами его происхождения и с еврейской культурой как таковой. Отец писателя, Элиэзер Штейнман (1892–1970), известный критик, переводчик на иврит Метерлинка, Достоевского и других зарубежных классиков, человек широчайшей образованности, ратовавший за синтез традиционно-еврейского начала с мировым, родился на Подолье, а его художественные вкусы сформировались в Одессе, где он на переломе двух веков активно работал в еврейской литературе. (Узнав об этом, мы с вами, быть может, легче снесем иронию рафинированных героев романа, снисходительно взирающих на русских евреев с высоты органичной для них немецкой культуры). В 1924 г. Элиэзер Штейнман с женой и сыном Давидом приехал в Эрец-Исраэль. Второй сын, Натан, родился уже в Тель-Авиве, в 1925 г. Здесь он учился в гимназии «Герцлия», здесь стал участником левосоциалистического молодежного движения Ха-шомер ха-цаир, одним из руководителей которого был его старший брат. Братья, унаследовавшие, хоть и в разной степени, одаренность отца, добились известности на литературном поприще. Давид стал видным публицистом, а Натан, начав с поэзии, с успехом занимался драматургией и прозой. Пьесы его ставились не только в Израиле, но также в Европе и Америке; книги вышли на нескольких языках. Так, «Квартет Розендорфа» переведен на английский и немецкий (успех романа в Германии побудил тамошнего издателя вторично выпустить книгу массовым тиражом в мягкой обложке), готовится китайское издание.
Натан Шахам — лауреат ряда престижных литературных премий (в том числе премий им. А. Шленского, им. Х. Н. Бялика, им. И. Ньюмена). В 1992 г. роман «Квартет Розендорфа» был признан в США «лучшей еврейской книгой года». В Израиле роман выдержал шесть изданий. Признание не слишком ожиданное, если учесть, что книга отнюдь не рассчитана на «массового читателя», а ее автор обходится безо всякого пиетета со многими «священными коровами» израильского общества.
Быть может, причина успеха романа в том и заключается, что, не давая никаких рецептов и намеренно избегая легких решений, он подчас создает то напряжение, «которое тянется до точки, где его уже нельзя выносить».
Первая скрипка — Курт Розендорф
Море тихое, путешествие протекает удачно. В сегодняшней Германии у Мендельсона и у нас одинаковая судьба[3]. Но стереть его из Британской энциклопедии они все же не смогли.
Небо яркое, золотисто-синее. Только море еще мрачное, прусской синевы — точно в глубине по-прежнему бушует вчерашний шторм. Волны совсем без пены, гладят борт корабля. Мотор гудит в ми бемоль мажоре. Хорошо сочетается с синим — цветом тоски по абсолюту. Лестница дружбы у «вольных каменщиков»[4].
Хочу верить, что друзей можно найти повсюду, даже в стране, где низкая культура и так много политики. Странно будет играть Моцарта в пустыне. Тонкая печаль, совсем не мажорная, разлита в произведениях, написанных Моцартом в этой тональности, — в Концертной симфонии для скрипки и альта и в Концерте для фортепьяно, в «Кегельштадте», в Струнном квинтете — словно он не верил в дружбу тех, кто поклялся друг другу в вечной верности.
Домой напишу: даже в шуме судового двигателя слышится мне дружественный звук. Маленькая ложь. Нет ведь никакого проку тревожить домашних. Глупо было бы рассказывать в первом письме, что уже в пути меня пугало какое-то отупение чувств. А ведь прежде путешествия волновали меня, я, бывало, чувствовал себя юношей, впервые самостоятельно отправлявшимся в дорогу. И вот теперь, когда я еду навстречу столь резким переменам в жизни, — полнейшее равнодушие. Уже два дня как я не прикасался к скрипке — из-за шторма, и это раздражало меня больше, чем неясность во всем, что касается будущего. Странная апатия одолела меня. Я еду играть в провинциальном оркестре, созданном из соображений гуманности, из страха перед будущим, — плыву на корабле, точно турист, отправляющийся в отпуск, с пустой, без единой мысли, головой.
Быть может, оттого, что все силы потребовались, чтобы совершить первый шаг — покинуть дом, семью, друзей, родину, — и ничего не осталось на то, чтобы подготовиться к будущему. Мысли тянутся к прошлому. Воображение бежит от усилия, не хочет предугадывать, какова будет жизнь в жалком городишке, построенном на песке. Мне трудно представить симфонический оркестр в такой вот большой средиземноморской деревне, где нет ни оперы, ни кафедрального собора.
В жизни не видал собственными глазами города, основанного всего двадцать восемь лет назад. По фотооткрыткам нельзя было составить никакого понятия — маленькие дома по обеим сторонам улицы, ведущей к зданию с арками и башнями. Мне подумалось: странно — город, построенный вокруг гимназии.
Не осмеливаюсь представить себе струнный квартет.
Грета сказала:
— Без меня ты проживешь. Но без квартета жить не сможешь. Я ответил:
— Я ведь еду играть в оркестре.
Она встревоженно посмотрела на меня. Еще не отправился в путь, а уже отказался от всяких стандартов. Уже начал измерять себя мерками захолустной страны эмигрантов. Она будто предсказывала мне крах, и на лице ее было все то же выражение снисходительного разочарования, примирения с факторами, обусловленными характером, а не временными обстоятельствами. Ей и в голову не приходило предложить мне отказаться от принятого решения. К тому же она не станет тягаться с моей жестоковыйностью, превращающей поспешные решения в священный принцип. Раз мы решили расстаться на неопределенное время, нет смысла ссориться. Ссора только причинит боль, но ничего не изменит.
Я рассказал о нашем договоре с женой Эгону Левенталю (известный писатель, было весьма радостно убедиться, что и такой человек, как он, едет в Палестину; стало быть, есть шанс найти там некий milieu, культурную среду) — и по его лицу я видел, что он сомневается, есть ли у нас возможность хоть когда-нибудь воссоединиться. Гитлер — не преходящий эпизод, от которого Германия рано или поздно очнется, сказал он. Это лишь наши благие пожелания, им не выстоять перед фактами. Немецкий народ принял Гитлера, и только силы извне смогут его одолеть. А такой силы, к нашему душевному прискорбию, не существует. Запад сделает все, дабы умиротворить этого сумасшедшего, и гневные пророчества эмигрантов не изменят его позиции.
Мы говорили лишь о политических осложнениях, но Левенталь дал мне понять, что может представить себе еще одну-две причины, способные вызвать добровольную разлуку мужа с женой. Но он не станет допытываться. Человек рассказывает то, во что желает верить. Он полагает, и вполне справедливо, что о вопросах неполитического свойства, разлучивших меня с женой, я предпочту умолчать.
Разница темпераментов и эротические моменты все равно не поддаются определению, и нет проку пытаться назвать их по имени. Никогда мы не узнаем, каков подлинный вес проглоченных обид. Ведь возможно, что отупение чувств, внезапно навалившееся на меня, — это вполне нормальное состояние, которое другие именуют здравым смыслом.
Контраст наших с Гретой характеров прост и ясен. Его и посторонний мог разглядеть. Ортодоксы скажут, что трещина между нами есть яркий пример неудачи смешанных браков. Ведь с любой точки зрения мы были парой, которой обеспечена гармония. Оба мы музыканты с более или менее одинаковым положением, у каждого своя область — тут не было места конкуренции или каким-то второстепенным соображениям, оба любим музицировать, почитать хорошую книгу, оба готовы все силы положить на воспитание дочки, обоих не привлекает жизнь богемного общества, которая может оторвать человека даже от самого себя, ни один из нас не придерживается крайних взглядов, способных расшатать твердую основу взаимопонимания. Оба мы люди прилежные, умеющие напряженно трудиться, откладывая на черный день, мы способны понимать друг друга с полуслова, к тому же остерегаемся грубого юмора, который может привести к недоразумениям.