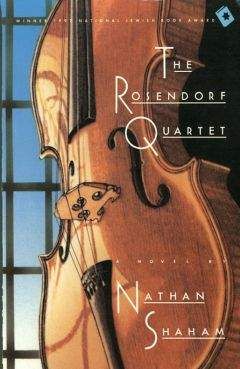Палестина представлялась идеальным временным убежищем.
Грета считала эту идею безумной.
— Если ты поедешь в Англию или во Францию, у нас есть шанс снова соединиться. Ты упрочишь там свое положение (это выражение она особенно любила), и мы сможем приехать к тебе через какой-то приемлемый срок.
Не могло быть сомнений: в Палестину она не поедет. Не потому что это страна, ставшая убежищем для евреев, — у нее нет предубеждения против евреев. Она ведь вышла замуж за еврея и рисковала жизнью, когда публично высказалась против антисемитизма! И не из-за своей музыкальной карьеры не может она даже помыслить о Палестине. Она способна отказаться от честолюбивых стремлений, удовольствовавшись преподаванием пения да случайными выступлениями с оркестром, если Губерману действительно удастся создать там оркестр, достойный так называться. Но она ни в коем случае не согласна рисковать будущим Анны.
— Такой цветок, как Анна, нельзя пересаживать в пустыню, — сказала она.
У Анны рано обнаружились необычайные способности к музыке. В свои четырнадцать лет она уже зрелый музыкант. У нее превосходная техника, умение сосредоточиться, а главное — безусловно личный подход к музыке. Нет сомнений, что ей суждена блестящая будущность, если она будет упорно идти по избранному пути и если у нее будут соответствующие учителя.
Говорят, в Палестине есть два-три приличных учителя, но Грета, знавшая о них по слухам, не готова признать их «культурной средой», необходимой Анне. Более того, по ее мнению, молодой музыкант высокого уровня не может развиваться вне общества музыкантов-сверстников.
Быть может, правда на ее стороне. Германия — то место, где может расцвести талант юного художника.
Что ж, и с этой точки зрения намеченная нами пауза будет полезна. Без отца-еврея на заднем плане у Анны будут лучшие шансы.
Но в Триесте на меня навалилась беспощадная тоска, точно физическая тяжесть в груди. Боль поглощала все внимание, не давая сосредоточиться. Мне душевно необходима их близость, сказал я себе. У музыканта высокого уровня нет частной жизни. Это надо признать. Моцарт расстался с горячо любимой матушкой и отправился в путь прежде, чем ему исполнилось восемь лет.
На пароходе у меня пробудились опасения, как бы наша жертва не была напрасной. Встреча с Эгоном Левенталем, наполнившая мое сердце радостью, пробудила и неожиданную боль. Он из осторожности ничего не сказал мне, но я хорошо видел: он сомневается, что при наличии отца-еврея нацисты оставят в покое одаренную девочку. Левенталь сказал только:
— Боюсь, никто из нас не может себе представить, на что способны эти люди.
Он, видно, знает нечто такое, о чем люди вроде меня, пережившие всего лишь увольнение, могут только догадываться.
Он был одним из первых узников Дахау.
Мы встретились на второй день плавания на палубе. Он узнал меня. В конце 1931 года он слушал концерт и ему запомнилось мое лицо. («Лицо, которое не забывается», — сказал он как о неоспоримом факте). Он подошел сказать мне, какое наслаждение доставило ему исполнение (пять лет назад!) ля-минорного квартета Шуберта, который он особенно любит. Он пробормотал свое имя очень невнятно, и мне вовсе не пришло в голову, что я говорю с известным писателем, автором «Величия предков», книги, которую я очень полюбил.
После того, как я узнал его — главным образом по манере разговаривать, столь необычной, — он снова удивил меня. Такого человека, как он, знавшего и славу, и страшное падение, могло взволновать то обстоятельство, что я помнил именно то его произведение, которое в свое время не произвело на читателей сильного впечатления.
— К книгам, отвергнутым публикой, у меня особое отношение — как у отца к погибшему ребенку, — сказал он с улыбкой.
Мне подумалось, что смешно волноваться из-за признания такого человека, как я, прочитавшего очень мало книг. Правда, и меня радуют похвалы незнакомых людей, но по-настоящему взволновать меня может лишь признание серьезного музыканта. Наверное, здесь сказались обстоятельства нашего знакомства — на пароходе, несущем нас в страну, которой мы не избирали, когда обоих нас одолевал понятный страх перед неизвестностью.
По нескольким причинам страхи Левенталя более оправданны, чем мои опасения. В нашем положении нет симметрии; меня ждет постоянное место работы, зарплата и более или менее устроенная жизнь. У него же нет ничего (только имя какой-то подруги, зарабатывающей на жизнь мелкой чиновничьей работенкой, да туманные обещания эмигрантской газеты в Швейцарии; если он будет постоянно посылать туда статьи, то со второго года ему начнут выплачивать постоянное жалованье — примерно половину заработка скрипача в оркестре). У меня есть музыка — универсальный язык, здоровые пальцы, отличная скрипка (Гваданьини), мне обеспечена публика (в этой захолустной стране уже несколько лет существует Филармоническое общество). У него же нет никакой уверенности, что он найдет издателя для своих сочинений (а писатель без языка все равно, что скрипач с переломанными пальцами).
Что до постоянной зарплаты — я поинтересовался, можно ли вести приличное существование на двадцать лир в месяц (если получу должность концертмейстера скрипок) и можно ли вообще просуществовать на семнадцать или шестнадцать лир в месяц (если они предпочтут мне другого, лучшего скрипача). Я знаю, это пустое беспокойство, но в состоянии замешательства и неуверенности мы набрасываемся на мелочи, чтобы держаться хоть за что-нибудь. Один попутчик сказал мне, что двадцать лир в месяц — это целый капитал. Но он киббуцник, возвращающийся из командировки, и, в соответствии с его мировоззрением, всякий, кто не голоден, может быть счастлив. Второй человек, к которому я не без смущения обратился с тем же вопросом, только с сожалением улыбнулся. Это был араб, изучавший медицину в Германии, его семья владеет обширными поместьями, и сумма в двадцать лир для него — бумажка, которую он засовывает меж грудей танцовщицы в ночном клубе.
«Дружба», завязавшаяся с первого взгляда между мною и Эгоном Левенталем, видно, из тех сближений, что возникают в больницах, санаториях и оканчиваются с выздоровлением. Ее источник — в одиночестве, которое мы испытываем на корабле, где собрались самые разные люди: тут и эмигранты, и возвращающиеся домой граждане, и правительственные служащие — и нет между ними никакой связи. Мы оба испытываем какую-то горечь от этой первой встречи с жителями Земли обетованной. С трудом находишь здесь одного-двух людей, с кем можно обменяться парой фраз. А единственный, кто бегло говорит по-немецки, пусть с причудливым акцентом, — араб. Некоторые из тех, кто не упускает возможности завязать беседу с иностранцем, только воображают, будто знают немецкий. Они говорят на жаргоне, который мы едва понимаем[5]. «От звука этого языка меня озноб пробирает», — говорит Эгон.
Я не столь чувствителен. Манеры их досаждают мне больше. В особенности горластость. А также непристойный обычай пускаться в разговоры о музыке в тот момент, когда они узнают, кто я такой. Мне отвратительна сердечная улыбка, которая появляется на их лицах только после того, как им становится ясно, что ты не беженец, нуждающийся в их благодеяниях.
Я называю словом «дружба» ту тонкую сеть отношений, что протянулась между мной и Эгоном Левенталем, хотя вовсе не знаю, встретимся ли мы с ним на берегу (элементарная логика говорит, что встретимся: страна мала и число выходцев из Германии в ней невелико). Однако это не означает, что мы проводим вместе долгие часы. Напротив. Мы встречаемся изредка. Но нам нет надобности много болтать, чтобы почувствовать, что мы понимаем друг друга. Например, про Дахау он не сказал мне ни слова. Дал понять, что важны не факты. Что же до их воздействия на него — этого он еще не знает. Похоже, свой тамошний опыт он резюмировал, когда сказал мне лишь одну фразу, самую суть (словно ученик Шенберга, желавшего вместить всю музыку в одну нотную страницу): «Человека, с которым ты не хотел знакомиться, не можешь потом забыть». Про свои книги он вообще не говорит. Быть может, опасается, что я их не читал (что весьма вероятно). Только про «Величие предков», о котором я вспомнил, он сказал несколько слов. Принц — это актуальный образ. И мораль: можно до слез переживать сентиментальную музыку и быть совершенно равнодушным к человеческим страданиям. (Левенталь прекрасно разбирается в музыке. В юности он играл на фортепьяно.) Вечером, когда море утихло и я отправился в каюту немного поиграть, он пошел со мной. Музыка действует на него очень сильно. Он видит во мне друга, потому что я никогда не остаюсь с ним дольше, чем ему хотелось бы. Грета наверняка объяснила бы это так: настрой на чувства другого для меня вторая натура. Бегство за море не может излечить человека от исконной слабости.