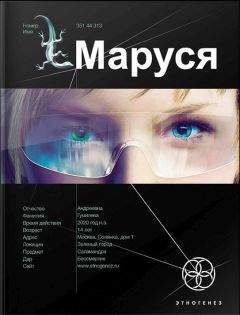Но Медведев от этого отказывается. Да он бездействует и в усилиях вернуть детям свою фамилию. Не видно, что осталось от его только что объявленной энергии, программы, выдающихся качеств воли, — вообще становится непонятно, чтбо же задумывал автор выразить фигурой Медведева? Явная авторская неудача.
Всю борьбу на себя перенимает неутомимый (от первого выслеживания Любиной измены ещё в Париже) нарколог. (Сам он тоже давно в разводе, сообщается нам, что у него тоже дети, он «любит своих сыновей», впрочем, мы их не видим.) Но тут и автор не выдерживает далее своего раздражения, выходит за пределы семейного конфликта — и столкновение нарколога с Бришем накаляет в русско-еврейский спор — как будто вся причина произошедшего в еврейской принадлежности Бриша, — неужели это евреи виновны в беспутстве и развале русских семей? Тут уже зацеплено и — еврей ли Христос? и — «вековая тоска» в глазах Бриша, и «русская удаль», которая «скачет на тройке ещё с гоголевских времён», только «одна из лошадок антисемитской масти», «вы — нация пьяниц! вы уже исчезаете!», и — «ты можешь улепётывать хоть сейчас, твой народ ждёт тебя всюду», «все заграничные голоса прямо воют о правах человека». После этого оба едут к каким-то знакомым Бриша, там нарколог продолжает пить безоглядно, его выбрасывают на улицу, бьют по затылку, и лишь в отрезвлении у него «ненависть сменилась стыдом за себя».
Вообще во 2-й части романа — ощущение дотягивания, чем заполнить? повторение сцен и вставные неинтересные (вовсе никчемушняя в больнице); случайные разговоры, брюзжания. Белов касается многих больных вопросов в тоне воинственном (но — ни звука о советском политическом устройстве) — однако весь счёт к современной цивилизации и нравственности не уместился в малую романную форму. От неразряженного авторского раздражения — и неудача. «Всё впереди» должно было выразить призыв не надеяться на будущее, а действовать в настоящем, — но весь состав романа не даёт такого материала и не осуществляет такого призыва.
«Кануны», часть III (1987). — Под влиянием ли «перестроечной» обстановки в СССР испытал Белов к этому году потребность подправить или подзакончить свою книгу 1976 года, о возможном продолжении которой прежде не было объявлено? Но третья часть вот появилась — и нам остаётся, в связи с предыдущими частями, также проследить её развитие.
Не сказать, чтобы Белов усвоил темы нового времени. Он опять начинает с медлительных сцен, разработки добротных подробностей быта, минувшего 60 лет назад. Затем, по революционному разгону тогдашних событий, ускоряется и он, — но всё ещё вставляет и композиционно лишние, никак не работающие эпизоды, уже явно опозданные.
Сдвижка в понимании текших в 1929 году событий — несомненно представлена, они больше не сводятся к злостной воле единственного Игната Сопронова, к тому же, как теперь узнаём, ещё и припадочного. Лишь мельком упомянутые раньше процветающая маслодельческая крестьянская артель и кредитное товарищество теперь громят: «заел чужой алимент», «теперь им каюк пришёл», — да не только им, та же судьба и льняному товариществу и машинному (уж было и такое). И деловой, деятельный кооператор вздыхает: «Разве мы знали тогда? разве ведали, что так-то дело обернётся? теперь что осталось от нас? Разгонили нас всех до единого, как зайцев, а денежки из несгораемых шкафов выгребли». И прямая мужицкая реплика: «Пришло, значит, такое времё — мужиков к ногтю». И спорят: от Бога ли дьявольская власть? — Налогами обкладывают и повторно, и по третьему разу: «Мы платим, а оне прибавляют». У кого — уже и конфисковали одежду, бытовые предметы — и распродают желающим по дешёвке. Теперь читают в газете: «За чёткость большевистского руководства колхозами», «кулацкие выстрелы не остановят роста социалистической деревни». И — вот оно, понимание, нашлось-таки место в романе: «Дак где концы-то искать?» — «Концы в руках Сталина да у Молотова». — А Россия? «Коли совсем догорит? Куды мы после-то?» — «Тоже сгорим! И тепла не оставим после себя, один угар…»
Но вот что существенно важно, часто упускается, а Белов тут не упускает. На стариковском совещании вспоминают, кто воевал в германскую: как на фронте в 17-м году издевались над своими офицерами и стреляли их. А Данило Пачин, отец нашего теперь отчаянного строителя мельницы, так вроде и сам молодого поручика застрелил. «За что?» — размышляет теперь. И подсмеиваются над ним: «Не здря Данило Семёнович ходил под красной-то шапкою, нет, не здря! Бывало, с гармоньей идёт по селу, кричит на весь свет: „Попало от нас белому енералу, попало!“ Ну вот, а ноне чего закричишь?» А один мужик ещё с Пятого года от сына брал да прятал в сундуке Чернышевского и брошюры разные. «А с чего в Двадцатом году колоколам языки выдрали? и святые кресты начали спихивать? Пропили сами себя! Погодите, то ли ишшо увидим». А теперь «куды пойти посоветоваться? Раньше хоть в церкву, к попу, а нынче и церкви под замком». К миру, к сходу? «А что теперь мир? Дожили до того, что скоро друг дружку будем бояться». (Но не покинул Белов и внутрипартийную перетряску. Всё ж — не троцкисты ли всё это затеяли? Вот хулигана Сельку Сопронова готовит в ВКП(б) троцкист Меерсон из райкома.)
Увы. Композиция романа как была не упорядочена — такой и остаётся. Динамика то и дело расслабляется эпизодами, совершенно ни к чему не прилегающими, — то как Сопронов чуть не утонул в озере (а спасает его от смерти дочь опять же «кулака»), то какие-то армейские манёвры и ещё новые крестьянские парни из недавних красноармейцев; и «приворотный заговбор» старухи для покинутой девки. Вдруг вставлена запоздалая справка: история кооперативного движения в России — ещё от пореформенного александровского времени, и как Николай II учредил мелкий кредит в 1904, а в 1912 был создан московский народный банк, и сколько льна продали за границу в 1914 (сведения ценные, но не в рамках этого романа). (В тексте справки есть и нелепость: будто Ленин «подписал декрет, дававший широкий простор русской кооперации», — когда же? а 20 марта 1917 — то есть когда был ещё в эмиграции, в Цюрихе. А в 1918 — простор тот «был отменён», это-то верно.) — Или вдруг Сопронов зачитывает «бедняцко-батрацкой группе», и нам тоже, — полный, без пропусков, на три страницы инструктивный текст, полученный из крайкома ВКП(б). — Уже и раньше проявленное автором похвальное стремление не упустить в историческом романе вбрызгивания и какой-то документальности — однако не в таком же объёме давать и не в такой органической неслитости. (Тут же, рядом, слишком лобово и с избыточной длиннотою, идёт чтение стариками Апокалипсиса.) А тем временем растёт и растёт обилие крестьянских лиц, незапоминаемых имён (уже не раз назван, хотя никак не действует и ни слова не говорит, — Африкан Дрынов: знайте наших! это будет отец Ивана Африкановича).
В этой тесноте уже с трудом находит автор место для оживления так страстно задуманной ветряной мельницы: доделываются кузнецом последние нужные шестерни, а вот наконец подул желанный устойчивый, ровный ветер — и закружились всего два готовых крыла — и мелет! «Тёплая мучная струя потекла из лотка в мучной ларь. Мука была почти горячей, мягкой и ласковой. Хлебная струя текла как родная вода, как само непрерывное и вечное время». Крылья машут перед нами последним прощальным символом самодеятельной русской деревни. «И казалось, ничто никогда не остановит эту мучную ласковую теплоту». Какой там! Потому и прихлынули мужики на помол, что «по всей округе мельников объявили буржуями» — и все перестали молоть.
Тут-то и притекли полномочия Сопронову — создавать колхоз и в нашем селе. Для начала он подаёт в райком «Список контрреволюционного алимента» (в том списке и тех стариков, кто за церковь). И близ полночи — кидаются стучать в окна и всех «загаркивать на собраньё» тотчас. В полночь, однако, никто не пошёл, — так собрали с утра и протомили на собраньи целый рабочий день.
От этого момента финал романа уплотняется и убыстряется. Закруживается чехарда, хаос. Всё перемешивается: собрания, собрания, уговоры, партийная чистка, новые налоги, конфискации, аресты. И — всё не соглашались в колхоз. Тогда — прислали ловкача, агитатора-гармониста. Он попеременно и бойко, то в мягком тоне воздвигал горы обещаний, какие товары и машины потекут из города, то лихо играл на гармони и сам же пускался в пляс, чем и покорил. Стали записываться. И ещё. А тогда, «ежели весь мир всколыхнулся да в колхоз двинулся, делать нечего, стало быть, и нам». И вот «люди пешие и конные, уже из других деревень, везли и несли заявленья в колхоз». Впрочем, «к вечеру во многих деревнях люди слышали бабий плач. Ночью в иных домах не зажигали огня. Мелькали по сенникам и подвалам отблески приглушенных фонарей. Попавшие в новый список грузили на санки сундуки и кадушки, завязывали в узлы женские юбки, одеяла, холсты, шубы, девичьи атласовки, кружева, ружья, часы, выделанные кожи. Швейные машины, самовары и фарфоровую посуду заворачивали в половики. Кожи скручивались в рулоны, муку и зерно таскали из амбаров прямо в мешках. Всё это пряталось по гуменным перевалам в засеках, в овинах либо зарывалось прямо в снег».