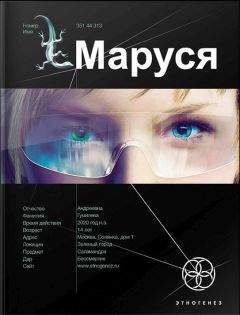Второй игровой ход продолжает первый. Книга напечатана тремя шрифтами: обычным, курсивом и полужирным. В предисловии это объясняется следующим образом:
«К сожалению, у автора нет возможности издать свою прозаическую оперу в двух вариантах, — к тому же ему видится в этом априорное неуважение к читателю. Поэтому, стараясь сделать сочинение удобным для широкой аудитории, он выделил курсивом места, которые можно пропускать без большого ущерба для фабулы, а полужирным шрифтом — те, которые сам он относит к „хитовым“» (поклон Кортасару и прочим авторам гипертекстов).
Далее начинается опера в трех действиях. Ее герой — журналист с псевдонимом Ять, как его, собственно, и называют другие персонажи, волею судеб и в результате собственных действий оказывается в центре трагикомических послереволюционных событий в Петрограде. Исходной точкой альтернативной истории становится, как уже сказано, вымышленный — январский — декрет большевиков о полной отмене орфографии (затесавшийся по времени между двумя реальными декретами об изменениях графики и орфографии). Отменяя букву ять, декрет как бы отменяет и псевдоним, и самого Ятя. Как бы отмененный, он продолжает активно существовать и общаться с персонажами, как выдуманными, так и имеющими реальных прототипов, в числе коих Маяковский, Горький, Хлебников, Шкловский, Луначарский и другие. Некоторые из них спрятаны за новыми именами (Маяковский — Корабельников, Горький — Хламида и т. п.), некоторые фигурируют почти под своими собственными — например, Корнейчук (подлинная фамилия Чуковского — Корнейчуков). Благодаря предложению Ятя филологов, оказавшихся безработными в результате отмены орфографии, объединяют в коммуну и селят на Елагином острове. В результате конфликта на национальной почве часть филологов откалывается, образует свою коммуну и под руководством Корабельникова занимается созданием нового искусства. Ять между тем, не входя ни в одну из коммун, общается со всеми и участвует в бесконечных разговорах о вечном, в основном сводящихся к теме «Можно ли сотрудничать с властью». На некоторое время Ять уезжает в Крым (второе действие «Беглый гласный»), чтобы соединиться с трагически любимой им женщиной. Трагизм заключается в том, что жить без нее он не может, а с ней тем более. Власть в Крыму меняется чуть ли не каждый день, а Ять довольно регулярно попадает в тюрьму, из которой его с завидным постоянством выручает любимая женщина. Второе действие является откровенным фарсом и больше напоминает оперетту, чем оперу. Чреда властителей Гурзуфа вызывает в памяти город Глупов и его градоначальников (поклон Салтыкову-Щедрину). Апофеозом второго действия становится появление как бы Сталина (точнее, пародии на него). В конце концов Ять, естественно, расстается с любимой женщиной и возвращается в Петроград, где и разворачивается третье, трагическое, действие: уничтожение обеих коммун, еще одна встреча с любимой и отъезд Ятя за границу. Вот, собственно, и все. То есть на самом деле, конечно, не все. Где-то на заднем плане развивается судьба членов Временного правительства, на переднем — живут, страдают и наслаждаются главные персонажи: Казарин и Ашхарумова, Грэм и Маринелли. Последний, толстяк, певец и авантюрист, — пожалуй, самый оперный персонаж из всей оперы. Всего, конечно, не перескажешь, на то это и эпос, и роман, и опера, поэтому стоит вернуться к интеллектуальным играм и игровым ходам. Главная из них — игра в угадайку, то есть отгадывание прототипов (поклон Катаеву, казалось бы, исчерпавшему эту игру). Сами персонажи всего лишь пародии, в массе своей крайне несимпатичные и поэтому легко и с удовольствием отгадываемые читателем. Труднее отгадываются персонажи, обрастающие в романе собственной плотью и судьбой, — Казарин (видимо, Ходасевич) или Ашхарумова (наверное, Берберова), но тем острее радость образованных читателей: «А этого ты отгадал? Так это ж такой-то…» Среди игровых ходов надо еще назвать параллелизм судеб главного героя и одноименной буквы, историю альмекского народа и флейты альмеков, введение хороших и плохих мистических персонажей: хранителя ненужностей Клингенмайера, «темных» и символического мальчика Петечку, который то ли встречается, то ли мерещится разным героям. И наконец, подземный ход, спасший Ятя.
Все эти игры, безусловно, вторичны. Быков вообще подчеркнуто и осознанно вторичен, и это, пожалуй, его основная постмодернистская игра. Он повторяет то Салтыкова-Щедрина, то Кортасара, то Леонида Андреева, то Алексея Толстого, то Катаева, наконец, сам Быков называет Александра Житинского. В целом текст стилизован под классическую русскую литературу вообще. Не удержусь от длиннейшей цитаты-списка (поклон Набокову):
«Талисманы были прекрасны неприметностью, бедностью — огарок, муаровый бант, кукольный глаз, башмак, монета, бусина, четвертка бумаги с обрывком счета, записанного порыжевшими чернилами, одинокий валет из старой колоды (все еще франт — подкрученные усики, выцветший румянец на девически чистых щечках), витой шелковый шнурок, плоский и ломкий засушенный цветок из гимназического гербария, задачник Магницкого с вписанными карандашными ответами, игральная кость, коготь неизвестного дракона (а при ближайшем рассмотрении, скорей всего, куриный), бархатная подушечка с запахом пряной, сухой, мелко крошенной травы, — все это было разложено на шести полках высокого, загнанного в темный угол шкафа красного дерева с резьбой».
Если предметов, то десяток, если эпитетов, то не меньше трех, — так и набегают семьсот страниц.
Хотя по стилю это совершенно и незаметно, но с точки зрения сюжетных приемов и, главное, перемешивания реальности с вымыслом Быков много заимствует у Борхеса. Такова история с выдуманной флейтой выдуманного народа, части которой хранятся в Мехико (улица Лоуренсио Дебальо, 23, со двора) и в Кратове (улица Ворошилова, дом 17, во втором мешке справа от входа). Ключевой для Быкова во многом становится фраза из заключения:
«Автор не документалист, однако за некоторые частности может поручиться».
Вполне традиционен для всей русской литературы и замечательный психологизм Быкова (то есть опять же вторичен). Лучше всего автору удаются женские портреты. Психологическая характеристика персонажа обычно предлагается вместе с его появлением на сцене. Например, увидев Ашхарумову, Ять практически сразу понимает:
«Прелесть Ашхарумовой была неотразима, но открывалась не сразу (здесь и ниже курсив мой. — М. К.). Это походило на постепенное узнавание: поначалу оставалась смутная надежда, что гармония ее облика чем-нибудь да нарушится. Ять все ждал, что обнаружит себя резкая черта, которая сразу развеет очарование и позволит не томиться по недостижимому. Однако чем дольше он сидел в хорошо протопленной, крошечной комнате Казарина (с единственной и довольно узкой постелью, предполагавшей тесное объятие), тем яснее понимал, что никакого облегчения ему не будет, что она именно то, что есть: образ цельный, выточенный из единого куска. Красота? Но красота — еще легкий, переносимый случай по сравнению с этим: бывают красавицы, в которых все разнородно, раздрызганно, и именно эта дробность облика позволяет надеяться, что так же раздергано их сознание. Эти легко прощают вину, забывают, уходят и возвращаются. Ашхарумова была иной породы: такая женщина уходит раз навсегда, бежит из дому с первым встречным, если находит в нем свое (и находит безошибочно, никогда не обольщаясь ничтожествами); любит долго, терпит безропотно, прощает измены (не прощая лишь измены предназначению) — и остается с избранником до тех пор, покуда он сам не надломится. Около надломленного она не задержится и секунды — жалость ей незнакома; жалость оскорбила бы и его, и любовь. Такие женщины вечно устремлены вперед, как фигуры на корабельном бушприте, — и безошибочно чувствуют, какой корабль понесет их вперед быстрее всего. Это могло бы, на взгляд недоброжелателя, сойти за карьеризм — ненасытная жажда не просто любить, но любить победителя; но не было сомнения в том, что Ашхарумова с тем же пылом устремится и на гибель, лишь бы катастрофа соответствовала ее представлениям о совершенстве. Все это Ять понял почти сразу, но признаться себе боялся и потому постепенно убеждался в убийственной точности первоначальной догадки. У нее было крепкое, точно мраморное тело, на котором ни время, ни лишения, ни объятия не должны были оставлять следов: он представил всю ее сразу и ясно с несомненностью опыта и вожделения…»
И далее психологический портрет переходит в столь же подробный физический (здесь неизбежен низкой поклон Льву Толстому, потому что кто же еще мог столь глубоко и поспешно проницать человека вообще и женщину в частности?).
Еще одна игра и еще один парадокс связаны со столкновением «тогда» и «сейчас»: будучи «гидом Серебряного века», опера оказывается весьма актуальна сегодня. На это указывает сам Быков: