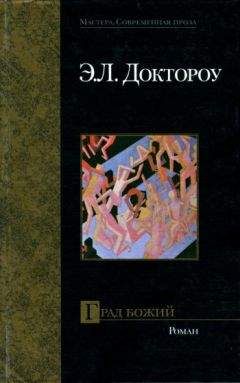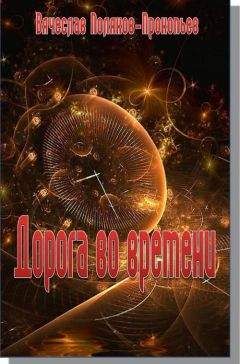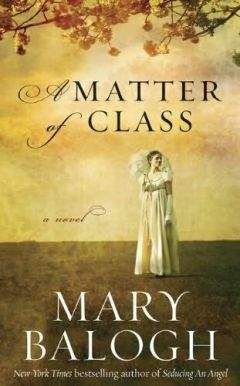Не обижайся на меня, Слэпс, ты же знаешь, как я люблю тебя.
Поздно ночью, приглушив приемник, я слушал Пола Уайтмена, прижав ухо к динамику, слушал Руди Вэлли, Расса Коламбо и Джека Леонарда. Ловил станции Питтсбурга, где на сцене Покконо-Рум в отеле «Трех рек» играл Билли Уинн со своим оркестром. Это была не просто музыка, это был высочайший класс. Here is the Drag, See how it goes; Down on the heels, Up on the toes. That’s the way to do the Varsity Drag. Руди Вэлли учился в Йеле и всегда каким-то непостижимым образом умел это показать. У Джолсона был хороший голос, но он всегда слишком явно продавал то, что пел. Он совсем не то, Джолсон. Певчий, он не стоит даже презрения, клоун, в нем не было ничего от музыки. Я не люблю комедиантов, которые еще и поют. Я уважаю певцов, которые серьезно относятся к тому, что делают. Артист должен быть только тем, кто он есть, и больше никем. Я ищу в исполнителях стиль, изящество, понимание лирических нюансов, вкус и ум. Вы понимаете, какой дискриминации подвергало себя это ничтожество из Нью-Джерси подобными инструкциями. Я копировал песни Гершвина, его лирику, записывал ее в тетрадь, Джордж был моим идеалом, с его высоким стилем, сложностью, не важно, что он вышел из Нижнего Ист-Сайда, этот сын маленькой официантки, он тоже родился, как и я, отнюдь не в замке.
Всерьез я пел в полном одиночестве, в доке. Отрабатывал носовые звуки, прислушивался к ним, отыскивал их, все время глядя на противоположную сторону реки, на город, я пел для него, слушая, как мой голос резонирует под моей твердолобой черепной коробкой. Я хотел окутать белокаменный город своим голосом, заткать его нитями своих песен, опутать его так, чтобы этот проклятый город целиком оказался во власти моего голоса. Теперь вы знаете это, да? песня — это ты, большой город, ты всегда был моей песней, ушедшей на другой берег широкой, покрытой маслянистой пленкой реки; над моей головой летали чайки, роняя панцири крабов к моим ногам, а черные мужчины терпеливо ловили рыбу у дальней стенки дока, надеясь выудить что-нибудь приличное.
Прошел еще год, прежде чем я действительно взошел на паром с пристани, расположенной в квартале от дока, и переправился на ту сторону. За перевоз я заплатил дневную зарплату рассыльного в отелях Ньюарка. Остров Манхэттен рос передо мной, постепенно превращаясь в место, где обитают люди. Картина обрела четкость, как изображение, попавшее в фокус: лайнеры у пирса, дымы над причалами, запахи торговых складов Вест-Сайда. Вниз по сходням — и я окунаюсь в жизнь. Гудки, огни, трамваи, автобусы, грузовики, свистки полицейских, поток, грозящий смести все на своем пути. Кто организовал все это, как вся эта махина работает? Откуда люди знают, в какую дверь входить? Как они чувствуют себя в своих квартирах на высоте сорока этажей над землей? Я шел по улицам, готовый обнимать фонарные столбы. Всем существом впитывал шум, такой важный городской шум. Изучал, как ходят люди, присматривался к фигурам мужчин и женщин, которые попадались мне на глаза, к их одежде. Люди тянулись к свету, как мотыльки. По мостовым тогда еще цокали подковами лошади, запряженные в повозки. Как ученый, я ставил опыты, брал кеб, говорил, куда ехать, платил за проезд, плюс положенные чаевые, не показывая, какая ты неотесанная деревенщина. Я заглядывал в отели, где играли ансамбли. Набирался духу, ходил на вечера, сидел в баре с сигаретой, стараясь выглядеть старше своих лет. Наблюдал за игрой ансамблей, смотрел, как они управляют публикой, с каким знанием дела подбирают репертуар.
Вот и вся премудрость, за исключением того, что все это так и не стало моим. Я остался бедным мальчиком, глазеющим на витрины магазинов. Но я поклялся, что покончу с этим, что я покорю город, соблазню его! Как? Лирикой моих романсов! Я воспользуюсь для этого обычной разменной монетой, поп-мелодиями. Кто побьет меня? Вся свобода мира, образование, гений, власть, политика, деньги — и кто? — этот мальчишка с повадками мелкого фокусника, но я в песне выверну свою душу наизнанку, если научусь петь, я буду делать это так, что сама Пресвятая Богородица сойдет со своего мраморного пьедестала и отрет пот с моего лба краем своей белой одежды. Знал ли я тогда, что в мире существует множество интересов, заставляющих его двигаться? Я был просто зеленым мальчишкой, мечтавшим о Манхэттене, а мир тем временем разрывался на части, нацисты маршировали гусиным шагом, изгоняя евреев из их жилищ, Сталин морозил миллионы людей в лагерях, японцы отрабатывали технику обезглавливания на китайских кули и рангунских рикшах, итальянские пикирующие бомбардировщики обрушивали свой смертоносный груз на эфиопов, которые с земли грозили небу копьями. Мир являл человечеству свою истинную гуманность; плачущий ребенок на железнодорожных путях, кровь изливалась на горы, орошала пустыни, от нее краснели воды морей, мир превратился в кровавую арену истребления людей, этой безумной ярости всеобщего убийства могло бы хватить на то, чтобы опрокинуть нашу планету, сорвать ее с оси… а тут я вывожу своим бельканто:
Why can’t I let her know the song my heart would sing
What beautiful rhapsody of love and youth and spring
The music is sweet, the words are true…
The song is you!
(Все встают, неистовые крики одобрения, овация.)
* * *
Бывший сотрудник «Таймс», считающий теперь себя патентованным киллером, в последние дни поднял голову и расправил плечи. Он перестал сутулиться и смотреть себе под ноги, идя по улице. По походке человека всегда можно безошибочно угадать, что он потерпел поражение. Существуют тысячи видов походки неудачника, каждая из них скроена на свой неповторимый манер, но все ясно показывают, что перед вами невезучий, отброшенный на обочину жизни человек. Бывший сотрудник «Таймс» сумел вырваться из класса шаркающих, опустившихся, неприкаянных, преданных, озлобившихся или заторможенных. Не то чтобы он забыл, что в закрытии дела эсэсовского сержанта решающую роль сыграла случайность, нет, но и саму эту случайность он теперь ставит себе в заслугу. Сейчас он думает, что, увидев старого нацистского убийцу углом глаза, он узнал его подсознательно до того, как не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил негодяя. Он полагает, что в данном случае его тело управляло разумом, конфликт разрешился обращением контролирующих систем, причем управляющим фактором была не сознательная мысль, а электрический образ намерения, закодированный в скелетных мышцах. Он преодолел себя, прошел испытание свободой. Какое счастье, что движение его оказалось таким верным.
Бывший сотрудник «Таймс» чувствует, что может все, нет такого дерзкого замысла, который был бы ему не по плечу. Он делает себе короткую стрижку, начинает ходить в тренажерный зал, покупает новую, подходящую ему по фигуре одежду. Этот шестидесятилетний брюзга выглядит теперь если и не элегантно, то, во всяком случае, вполне пристойно. Он находит себе женщину, к которой относится с мужественным пренебрежением. Она издательский корректор, худенькая маленькая сорокалетняя блондинка, с которой его объединяет взгляд на грамматику и верность второму изданию полного словаря Вэбстера. Правда, она разочаровывает его своей доверчивостью, когда он за обедом предается безудержной фантазии, намекая на свои обширные профессиональные связи.
Следующим в его списке становится бывший командир гватемальского эскадрона смерти, ныне владелец ресторана в торговом центре Квинса, рядом с линией Лонг-Айлендcкого экспресса. Скорее всего, думает наш герой, эту историю можно было бы закрыть, если приехать к Квинс-Плаза на такси от железнодорожной станции, там недалеко. Однако бывший сотрудник «Таймс» встревожен тем, что ресторан находится в очень оживленном месте. Он приезжает на место, останавливается перед рестораном и видит массу стоящих на парковке машин, толпы покупателей, снующих по громадным магазинам, слышит крики матерей, везущих коляски с детьми, ухватившимися за никелированные перекладины. В воздухе стоит гул автомобильного движения в обе стороны — со станции и на станцию. Здесь можно стоять сколь угодно долго, притворяясь, что у тебя есть какая-то цель. Массивные кирпичные дома с рядами балконов закрывают небо, грязные голуби трещат крыльями, расклевывая остатки гамбургеров, дети носятся на скейтах среди стоящих машин, взад-вперед расхаживают стайки модных тинейджеров в дутых джинсах и перевернутых козырьками назад бейсболках… можно ли проявлять высокую нравственность, придерживаться принципов здесь, в этом бедламе свободных людей? Здесь не место для серьезности, в этом месте не может произойти ничего этически важного.
Но он воспрянул духом, когда вошел в ресторан. В помещении уютный полумрак. Убранство латиноамериканской асьенды, столики разделены барьерами, украшенными решетками. Столы покрыты белыми накрахмаленными скатертями, на каждом хрустальный стакан с водой. Официанты одеты как танцоры болеро. Звук текущей воды заглушает беспорядочный уличный шум. Время обеденное, два или три столика заняты мужчинами в костюмах, женщин или детей не видно. Люди, сидящие в баре, разговаривают с незанятым барменом, мужчиной в синем блейзере. Вот мужчина поворачивается, и у бывшего сотрудника «Таймс» екает сердце. Да, это он, гватемальский полковник из газетных вырезок, сухощавый загорелый мужчина, большие залысины, пышные черные усы. Демонстративно не узнавая патрона, наш герой здоровается с официантом и деловито берет свою недокуренную сигарету из пепельницы.