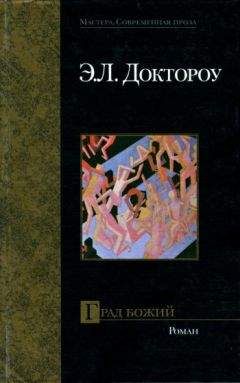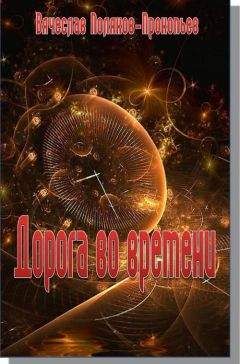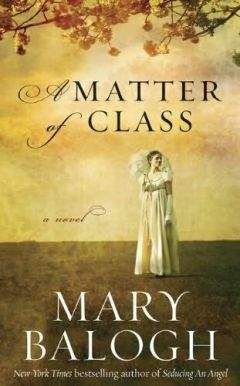Это была не песнь души; я едва не скулил. В паху ныло, в голове шумело от ослепительного вида Божьего творения, и это зрелище забирает тебя навсегда, ты уже не выпутаешься из его сетей.
Чувству сопротивляешься, делаешь эту ошибку, как и большинство глупых подростков. Свысока смотришь на девчонок, обращаешься с ними так, как обращается с ними твой мир. Понимая все, но не зная, как выразить себя, как дать желанию вырваться из тебя, как из пустого места, как справиться с ужасным влечением, которое как будто не имеет к тебе никакого отношения, но витает вокруг тебя, как погода, расцвечивающая небо облаками.
Все мои друзья были такими же тупицами. Вот отчего эти пошлые шутки, сигареты в углу рта, вот зачем эти вызывающие ширинки, вот зачем презрительно поднятые брови, неистовые аплодисменты в бурлеске, хотя во рту пересыхает и чувствуешь, что сердце бьется так, что готово выскочить из груди, разорвав тонкие прутья ее клетки ударами в такт непристойного танца.
«Поющие дураки». Такое имя мы выбрали. Некоторым в этом названии слышалось что-то китайское. Как и в названии «Оловянная сковорода»[15]. Те ребята говорят, что любовь — это народная песня в душе.
Какие были у нас шансы? Какими дарованиями мы обладали? Я, который, согнув руку в локте, мог продемонстрировать бицепс толщиной с язычок ботинка шестого размера, или Винни, прозванный Слэпси, потому что его мозги работали так, словно в детстве его слишком часто били по голове, или плотный Марио по кличке Кирпич, потому что телосложением напоминал кирпичный нужник, или Аарон Еврей, чужак из другого квартала, прилипший к нам, потому что ему нравилось наше хриплое, на итальянский манер, пение. Это, скажу вам, не то искусство, которое требуется итонским мальчикам для игры в гольф. В снежки мы закладывали камни и пели наши хиты на углу возле кондитерской лавки.
Еврей, отец которого держал номера, любил наши поездки на утренники в Юнион-Сити, он готовился стать аферистом, Еврей, и иногда играл роль антрепренера, практикуясь на нас, уличных музыкантах, хотя ему недоставало исключительно важного дара важно выглядеть, это ужасный пробел, из-за которого у него не было никаких надежд добиться успеха в мире прожженных плутов. Кроме того, у него был, как я думаю, паралич, он подволакивал ногу, не мог поставить ее на пятку. Это придавало шаткость его походке, казалось, что он вот-вот завалится набок. Потертые вельветовые бриджи и резиновые тапки зимой и летом и полы короткого пиджачка, развевающиеся на ветру. Он был добрый дурачок с восторженным выражением лица и крупными, выступающими вперед зубами с вечной улыбочкой на лице. В довершение всего у него был противный высокий голос, переходивший иногда в маниакальный вопль. Это был полный конфуз для нашего пещерного театра снов, крик бывал таким громким и пронзительным, что стриперши, встряхивавшие своими обвислыми грудями и крутившие задницами под барабанный бой, едва не застывали на месте, оглядываясь со своего ярко освещенного пятачка на наш закут.
Раз в неделю мы ездили на автобусе в Юнион-Сити. По сцене, освещенная розовым прожектором, маршировала голая женщина позднего детородного возраста. Еврей пронзительно верещал, Марио бил меня в плечо, изображая хореографическую сцену, Слэпси гнусавил текст, стараясь выжать все, что возможно, из своего таланта к членораздельной артикуляции, а я съежившись, сидел на стуле, мучаясь комплексами и испытывая возбуждение, которое я бы не назвал приятным. Я боялся, что она увидит, как я смотрю на нее, на стрипершу. Такое искушение манило со сцены. Она так ловко вертела задом — ба-да-бум, ба-да-бум, — да, это было вульгарно, но поверьте мне, после этого я перебывал во многих салунах и женщины баловали меня своим вниманием, но никогда не видел я ничего лучше. Это было грязное, низкое использование красоты, к тому же с ней в паре выступал кретин в клетчатом костюме, лаковых туфлях и котелке, который вываливался на сцену с торчащим из штанов розовым резиновым членом длиной в три фута. У меня в это время до тошноты болели яйца, и я злился, что эта жирная пляшущая шлюха представляет способности женщины. Я не хотел, чтобы так было.
Была еще одна, которая меня раздражала, — тупая тощая стриперша, худая и безгрудая, как мальчишка; она так апатично и вяло, как под наркотиками, передвигалась по сцене, что даже Рудди Рич не смог бы подобрать для нее соответствующий темп.
Как я дошел до этого? Почему я думал об этом? Может быть — и я продолжаю думать так в свои семьдесят лет, — потому что я верил, что в театре все должно быть не так, как на улице. Не буду притворяться, мальчишке, каким я тогда был, не под силу думать на такие темы серьезно. Тот никчемный мальчишка с двумя классами образования, старавшийся слиться в гармонии с другими Дураками на перекрестке двух улиц, — вот он вдруг решил, что представление — это иной мир? Какого хрена мог я тогда понимать в шоу-бизнесе, чтобы думать, что он должен дать нечто иное, то, что ты никогда не найдешь на улице? Но клянусь Христом, что это убеждение все же пришло ко мне, словно я был студентом консерватории, пу-пу па-дуп, но откуда оно пришло, этого я не могу сказать и по сей день.
Следуя тому же обычаю, нам приходилось благодарить то одного, то другого на церемониях награждения, а я благодарен Еврею за то, что он помог мне многое осознать, преодолеть дух отрицания, найти свой путь. Его собственный путь, путь моего бедного парализованного приятеля, по стечению обстоятельств, хотя я не хочу сейчас говорить об этом, оказался коротким и преждевременно оборвавшимся.
Но я старался, правда? Всегда, как бы я ни терялся, я искал мой алебастровый город. Насколько было бы лучше, если бы я был таким же застенчивым, как герой моей песни, если бы я только застенчиво представлял себе, как я целую Анджелу Морелли в Эсбери-парке. Залезая рукой под ее шерстяной купальник. Я не могу больше быть твоей подружкой, говорит она. Не то чтобы ты мне не нравился, нет, ты очень мне нравишься, но я не могу рассчитывать на случай. Вдруг что-то случится и это решит мою жизнь. Нет, я хочу сама ее сделать. Темные глаза сияют, чудесная серьезная девочка. Она отталкивает мои руки. У тебя нет перспектив. Нет работы. Ты бросил школу. Что ты хочешь сделать в жизни? Похоже, что ты не уважаешь себя, болтаешься на углу и поешь дурацкие песенки с такими же, как ты, ребятками, которые просто не знают, чем заняться. Зачем же ты плачешь, Анджела, если я сам себя не уважаю, и что там еще говорит твоя мама? Это говорит не мама, у меня тоже есть глаза, и я вижу, что ты ничего не делаешь, у меня есть уши, и я слышу, что у тебя нет никаких амбиций.
Нет амбиций, Анджела, у меня нет амбиций? У меня была амбиция трахнуть тебя, разве этого не достаточно? У меня была амбиция трахнуть тебя и весь мир вместе с тобой!
Теперь вы понимаете, кто моя песня?
Но вернемся к нашему герою. Он курит сигареты, по три за пенни, делает прическу в туалете и, как правильно сказала маленькая Анджела, поет вместе со своими Дураками последние хиты у дверей кондитерского магазина: I wanna be loved by you, just you, and nobody else but you. I wanna be loved by you a-lone, poo-poo pa-doop.
Первый шаг карьеры — выступление соло, это уже акт саморазличения. Кирпич, друг мой, у тебя оловянное ухо, тебе нечего делать в музыке. Иди стучать в дверь. А ты, Слэпси, ты не можешь даже запомнить слов. Слова — это песня, жопа, они придают смысл нотам, они — это то, ради чего написана долбаная песня. Вот так я оседлал их, убил их радость петь мелодии нашей культуры на улице: вот мы, дайте нам что-нибудь. Я убил все это, разом покончив навсегда с «Поющими дураками». Ты что о себе воображаешь, директор самозваный? Ты что, всезнайка? Кто сделал тебя руководителем? Ребята, вы — дерьмо, вы не способны петь. Может быть, но зато я способен дать тебе в рожу. Я бросаюсь на Кирпича, надеясь, что нас растащат прежде, чем он успеет расколоть меня надвое.
Так все закончилось, я остался один, только Слэпси сохранил мне верность, он следует за мной всюду, помогает, многое для меня делает, добывает для меня приемник, так вот. С тех пор он все время со мной, все эти годы. Он не поднялся высоко, но остался верен мне до самой смерти. Я признателен ему за это. Мы выросли вместе, хотя моя жизнь изменилась с эпическим размахом, а его осталась прежней, он накрепко привязался ко мне, к моей личности, к моей карьере. Я заполнил его сознание без остатка. Он был очень недалек, старина Слэпс. Будь он моей женой, я бы убил его. Он вырвался из нищеты, не правда ли, пусть даже уцепившись за мои фалды, но кто может утверждать, что он должен был поступить иначе? Правда, это была довольно странная жизнь. Когда случалось что-то приятное, чествование, выход платинового диска, медаль от президента, что бы то ни было, Слэпси искренне думал, что это происходит с нами обоими. Звонил такой-то, босс, приглашал на выпивку. Мы заслужили это, мы — самые лучшие!