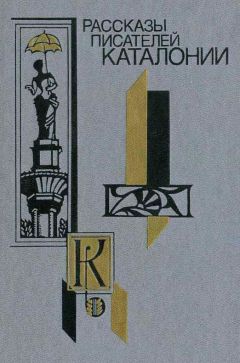— Как это я сразу не сообразил! Вот это будет здорово…
И мигом пробежал оставшиеся ступени, прихрамывая на больную ногу, которой двенадцать лет тому назад угодил под колеса вагонетки с углем…
В постели жена, привалившись к нему, слушала его рассказ.
— Короче говоря, — закончил свою речь Силверио, — в тот день, когда мы уйдем из поселка, нам выдадут по пятьдесят тысяч песет на каждого. Понимаешь? Пятьдесят тысяч песет! Значит, нам, раз нас шестеро, отвалят триста тысяч.
Силверио умолк. На лице жены он видел в полутьме все то же смирение, ту же покорность.
— Это большие деньги, Жуана. Чего только на них не купишь. Сама подумай!..
Тут Силверио понизил голос:
— А ведь мы можем получить еще больше… Все это будет только через два года… Как ты не понимаешь! Через два года…
Женщина вздрогнула, когда рука Силверио коснулась ее груди.
— Они сказали, что заплатят по пятьдесят тысяч песет на каждого члена семьи. Вот в чем вся штука. А мы возьмем да и сделаем еще ребенка… Сообрази, какую кучу денег получим!..
И он задрал жене рубашку. Та сжалась в комок, потом, не смея противиться, беззвучно заплакала.
— Еще пятьдесят тысяч песет, Жуана, — шептал ей на ухо Силверио — Пятьдесят тысяч…
Вода в реке начала подниматься в полночь, и, проснувшись на рассвете, я услышал шум, похожий на рев разъяренного зверя. И такая тоска меня взяла, что глаза бы мои на свет не глядели. В то утро нам предстояло плыть в Мору, и баркас, груженный двадцатью тоннами бурого угля, со вчерашнего вечера стоял у пирса, готовый к отплытию. Через час я услышал, как жена слезает с постели.
— Ого, как река поднялась, — сказала она, выглянув в окно. — Неужели вы все-таки пойдете в рейс?
Я пробурчал в ответ, что, мол, не от меня это зависит, но всякий, кто хоть немного знал нашего хозяина, дядюшку Годиа, смело мог бы сказать, что, пусть даже небо обрушится на землю, старик прикажет отчаливать. На всей реке не было шкипера опытней его, и реку он знал лучше самого господа бога, а упрям был как мул. Уж мне-то это известно лучше, чем кому бы то ни было! У меня не рос и пушок на подбородке, до этого было еще далеко, а он уже лихо водил свой баркас. То вниз по реке с грузом угля. То вверх с грузом муки, кухонной посуды или жидкого мыла. Дядюшка Годна вел свой род от потомственных речников, вырос на берегах Эбро среди матросов; в то время еще не тащили баркасы вверх по течению мулами, а тянули бечевой, вылезая из кожи, сами матросы. Вот почему дядюшка Годна обзывал молодых парней «шайкой бездельников и лоботрясов», у которых-де в жилах не кровь, а водица, а в голове ветер гуляет. Но ко мне он почему-то благоволил и упорно старался сделать из меня заправского речника, и, клянусь дьяволом, мне не оставалось ничего другого, как выполнить его желание! Он обучал меня ремеслу матроса крепкими подзатыльниками и после каждой взбучки говорил что-нибудь назидательное. «Понимаешь, Манел, — внушал он мне наряду с прочим, — река — это вроде бы скрытая от глаз дорога, сверху совсем гладкая, а вот внизу полно камней, как зазеваешься, так и оставишь на них и груз, и баркас, и собственную шкуру. У реки, как у женщины, свои капризы и причуды». Теперь старик уже в могиле, и, когда я рассказываю о нем, к горлу подкатывает ком, но в то утро, о котором я рассказываю, меня не раз так и подмывало утихомирить его, хватив веслом по голове.
Жена приготовила мне корзину с харчами, и я не спеша пошел на пирс. Река неслась бурая, как земля, и диким зверем кидалась на берег. Зачаленные баркасы качались на волнах так сильно, что казалось, вот-вот лопнут швартовы.
— Вода все еще прибывает, — заметил Сержио, хозяин одного из баркасов, обращаясь к стоявшим рядом сотоварищам. — Видно, где-то за Сарагосой дождь лил как из ведра!
— И немудрено, осень…
— Сегодня нам нечего и рыпаться.
— Что ж, значит, кутнем!
«Вы-то кутнете, — подумал я, — а вот мне, видать, придется хлебнуть лиха!»
Чуть ниже поселка в Эбро впадала река Сегре, и ее светлые воды, ударяясь в мутные струи большой реки, поворачивали вспять и разливались, затопляя песчаные островки и отмели; кусты и деревья как будто плыли по воде на невидимом плоту.
«Хорошо еще, что сама Сегре не поднялась, — рассуждал я про себя. — Не то попали бы мы в переплет!»
Дядюшка Годна еще не пришел на пирс, и я, поглядев на баркас, пошел на скотный двор. Там уже были двое других парней, составлявших вместе со мной команду баркаса.
Сегарра задавал жмыхи Одру, как мы прозвали нашего мула; Молес, сидя на тюке соломы, вертел самокрутку. Рев разбушевавшейся реки пугал животных, они перебирали ногами и натягивали поводья.
— Тихо… тихо!.. — приговаривал Сегарра, поглаживая бока Одра.
— Значит, мы отплываем?
— Мать его растак! — рявкнул Молес — Нам только этого и не хватало! Не очень-то мне хочется шмякнуться всеми костьми о скалу! Сегодня с рекой шутки плохи. Закуривай.
Он протянул мне кисет и папиросную бумагу, и я присел рядом с ним. Тут я заметил за дверью какой-то огромный сверток.
— А это что за штука?
— Он составит нам компанию в этом рейсе!
— Что ты хочешь этим сказать?
— Его только что притащили сюда, — пояснил Сегарра. — Это Иисус Христос из одной деревни в низовьях. В Великий пост его несли в процессии и трахнули о косяк церковных дверей. По пьянке, наверное! Отвезли починить в Лейду. А теперь из Лейды доставили сюда и подсунули нам, чтоб мы его довезли до Моры. Оттуда они его потом и заберут.
— Не по нутру мне такие дела, — проворчал Молес. — Я этих церковных причиндалов боюсь хуже чертей… Никогда не знаешь…
— А я, — сказал на это Сегарра, — боюсь только реки, вон как она поднялась…
— Скорей всего, никуда мы не пойдем.
— Сейчас узнаешь, старик уже на пирсе. Это его собака лает, Лира.
Я вышел из скотного двора. Дядюшка Годна, прямой, как веретено, стоял на пирсе, повесив корзину на руку и засунув обе руки за пояс, стоял и молча смотрел на реку. Всякий раз, как он вот так глядел на речные воды, мне казалось, что старик разговаривает с рекой. Лира перестала лаять и сидела рядом с хозяином, навострив уши…
Немного погодя старик оглядел небо, по которому ползли темные грозовые тучи, и окликнул меня.
— Добрый день, дядюшка Годиа! Как дела?
— Готовься к отплытию. Пойдем в Мору.
Я не посмел перечить ему, но шкиперы угольных баркасов с других шахт тотчас начали обсуждать его решение, всяк судил по-своему. Наконец один из лучших шкиперов, по прозвищу Везучий, подошел к старику.
— Послушай, Годиа, хорошо ли ты подумал? А ну как с вами беда случится! Что за блажь выходить в рейс по такой большой воде! Раз уж такие дела, лучше остаться у причала: сегодня Эбро шутить с собой не позволит!
— Это мое дело, — отрезал старик.
— Да бог с тобой! Я и не собираюсь учить тебя, это все равно что здорового лечить. Но мы же старые друзья, и мне становится не по себе, как подумаю, что ты можешь отправиться на корм угрям!
Везучий только время зря терял. Попадем ли мы в Мору или прямехонько в ад, все равно и дураку было ясно, что от причала мы отойдем. Ни за что на свете старик от своего не отступится!
Пока Везучий отговаривал дядюшку Годиа, Молес привел Одра, и нам пришлось изрядно попотеть: никак было не затащить его на баркас. И без того животное было напугано, а тут еще толстая доска, служившая трапом, ерзала по борту всякий раз, как волна подбрасывала судно. Мы понукали мула, хлопали по крупу, подталкивали и наконец завели на место.
Когда Молес, Сегарра и я притащили Иисуса Христа, который весил ничуть не меньше, чем самый непотребный груз, дядюшка Годиа уже стоял у руля, а на берегу тем временем собралась толпа. Слух о том, что мы отплываем, быстро облетел поселок, и добрая половина его жителей пришла посмотреть, как это у нас получится. Христа подняли на борт и положили на уголь, которым баркас был загружен. Я взял конец, чтобы как следует принайтовить святой груз, но старик окликнул меня.
— Что, дядюшка Годиа?
— Сначала раскутай ему голову!
— Час от часу не легче! — проворчал я себе под нос. — Что это еще за причуда?
Со злостью развязал я веревки, которыми был обмотан Христос, а Молес, стоявший рядом со мной, роптал, говорил вполголоса, что старик, мол, с ума спятил, что такие шутки с церковным добром доведут нас до беды. Когда я отогнул мешковину, меня поразили открытые глаза Христа: они глядели как живые, казалось, зрачки вот-вот дрогнут, а кровь, намалеванная на лбу, того и гляди закапает на уголь. У Молеса отвисла челюсть, и он стал белее, чем распятый сын божий.
— Теперь поставьте его прямо!
Мы выполнили приказание, а в толпе заохали. Высокая волна едва не опрокинула нас всех за борт, с превеликим трудом удержали мы фигуру Христа. Голова его выглядывала из мешковины, словно какой-то призрачный лик; Молес глядел на Христа с ужасом, а Сегарра криво улыбался. Я уже изнемогал под тяжестью распятия, но тут старик обратился к тому, кто выше нас всех.