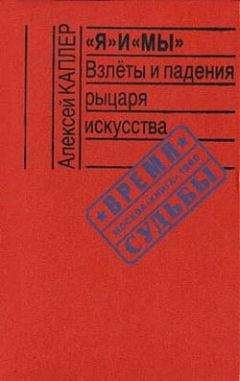Удивительное ощущение контакта с аудиторией возникало неизменно всякий раз, когда я начинал вести передачу.
Не могу ни с чем сравнить это чувство прямой связи между нами.
Думаю, когда-нибудь откроют новый вид энергии, который объяснит, что, мол, да, действительно, это не фантазия, а реально существующие какие-то там колебания, передающиеся от зрителей через экраны их телевизоров, через антенны по воздуху на телебашню, оттуда в ателье, в телекамеру и из ее объектива на ведущего передачу человека… Разве это более фантастично, чем такое явление, как радио? Никакие технические объяснения не сделают для меня менее сказочным то, что мы живем, постоянно окруженные голосами всего мира – даже в комнатах, за глухими стенами, – и можем при помощи небольшого прибора сделать любой из этих голосов слышным.
А то, что вокруг нас существуют еще звуковые миры за пределами нашего ограниченного слухового диапазона – те звуки, что воспринимают животные, насекомые и чего совсем не слышим и не можем слышать мы!..
По сравнению со всеми этими чудесами мне совсем не кажется нереальной наша с телезрителями двухсторонняя связь. Пять лет «Кинопанорама» передавалась прямо в эфир. И пять лет руководители киноредакции Центрального телевидения убеждали меня, что лучше, спокойнее было бы записывать передачу заранее, а потом уже показывать телезрителям пленку. Видеозапись, мол, для зрителей совершенно неотличима от прямой передачи, никто и знать не будет, что панорама записывалась заранее. Зато как будет спокойно! Вы, ведущий, что-то не так сказали или появилась какая-нибудь техническая помеха… Съемку можно остановить, переписать это место наново… Никаких «нервов» у вас, ведущего, никаких «нервов» у редакторов…
Но однажды мне все же довелось испытать предварительную проверку даже во времена прямых передач «Кинопанорамы» в эфир.
Киноактеру Сергею Мартинсону исполнилось 70 лет, и я решил в ближайшем выпуске посвятить ему «страничку».
Однако Мартинсон уезжал с театром на гастроли, и беседу с ним пришлось записать на кинопленку. Назначили съемку, сняли.
Ну, а раз записано, начальство киноредакции село в просмотровый зал и посмотрело…
В беседе с Мартинсоном было такое место. Я говорю ему:
– Знаю тебя вот уже 50 лет, и ты совершенно не изменился – так же молод, так же пляшешь, так же поешь, так же весел (и это была чистая правда). Может быть, у тебя есть какой-нибудь секрет сохранения молодости? – спросил я.
Он ответил:
– Есть.
– Какой? – спрашиваю.
– Секрет, – говорит, – простой: за всю жизнь ни над одним вопросом не задумывался больше чем на три минуты.
И мы оба рассмеялись.
Вот этот-то шутливый разговор показался недопустимым.
Ну, и ножницы в руки – чик-чик и… ни о чем подобном я не спрашиваю, и ничего похожего Мартинсон не говорит.
Из опасения таких вот «поправок» я и стоял насмерть, сопротивляясь предварительным записям. Ибо множество раз не менее «опасные» шутки произносились и мной и моими собеседниками, и это проходило, не вызвав ни разу какого-нибудь хоть малейшего замечания.
Ведь очень еще важно, как та или иная фраза говорится – с какой интонацией, что в это время видно на экране.
С какой шутливой наивностью, с каким простодушным юморком этот легкий, обаятельный человек – Мартинсон – раскрыл свой «секрет» о трех минутах!
Однако главной причиной моих решительных отказов записывать передачи было все же опасение, что тогда исчезнет то колдовское ощущение сиюминутной связи со зрителями, чувство реальной в данное мгновение беседы с ними и их «обратной реакции».
Вот этого я ни в коем случае не хотел лишаться, будучи убежден, что неизбежно утеряю нерв передачи, утеряю душевный подъем, остроту чувств – все то, что держало меня «в форме», что подсказывало слово, шутку, а то и мгновенный переход к серьезному разговору, к значительной теме. Ибо, несмотря на подготовку к передаче и отбор фрагментов, приблизительную наметку тем беседы, примерное определение времени на каждую из тем (ведь панорама должна в целом уложиться строго в свои полтора часа), многое в этих временных рамках импровизировалось во время самой передачи.
Итак, я железно держался, категорически отказываясь от видеозаписи.
Что же такое должно было случиться, чтобы на шестом году я сам пришел и сказал:
– Все. Будем записываться.
Первый удар в челюсть нанес мне старинный друг, знаменитый документалист. Очередная «Кинопанорама» должна была начаться с его новой картины.
Я сказал:
– Тебе две-три минуты. Несколько слов о картине.
– Хорошо, – ответил он и говорил 14 минут!!!
Я пытался остановить его, незаметно толкал, ногой, кашлял, наконец, сказал открытым текстом:
– Извините, но передача у нас регламентирована, мы не успеем все показать.
– Сейчас, сейчас, – отвечал он и продолжал говорить.
Он перечислял всех членов своей съемочной группы, рассказывал, какие они замечательные работники, как ему приятно делать с ними картину…
Я видел, что вдали, наверху, в глубине ателье, за стеклами аппаратной, где находились члены нашей группы, нарастала паника.
Ведь все фрагменты уже заранее заряжены в проекционные аппараты, невозможно ничего изъять, сократить передачу – все хоть и приблизительно, но рассчитано – следовательно, похищенные 12 минут взять просто неоткуда.
С каким удовольствием я убил бы его тогда!..
Ему, видите ли, хотелось доставить удовольствие своим сотрудникам и прославить их при помощи «Кинопанорамы».
Не помню уж, как я после изворачивался, как ловчил, сокращая на ходу то, что собирался сказать, как удалось все же ровно к одиннадцати, когда неизбежно начиналась новая передача, закончить панораму…
Меня можно было скрутить и выжать, как мокрую тряпку.
Второй удар под дых нанесла мне польская актриса, которую я пригласил на «Кинопанораму» вместе с Даниэлем Ольбрыхским.
Это было во время Международного кинофестиваля. Ольбрыхский, с которым мы подружились еще на предыдущем фестивале, был идеальным телевизионным собеседником. Веселый, остроумный, всегда готовый подхватить шутку, он мог, что-то рассказывая, тут же и спеть, и станцевать, и прочесть стихи… Словом, Ольбрыхский должен был стать «гвоздем» передачи.
Актриса, с которой он пришел на панораму, талантливо сыграла главную роль в одном из фестивальных фильмов. Это была красивая молодая женщина. Она казалась замкнутой, молчаливой, и, глядя на нее снизу вверх – она на две головы выше меня, – я засомневался: сумею ли ее «разговорить» на передаче?
Мы уселись за круглый журнальный столик.
Передача началась. Я представил гостей панорамы и попросил актрису сказать несколько слов о своей роли.
И она сказала…
Прошла минута, две, четыре…
Она говорила уже не о роли, а о варшавских людях, о своих впечатлениях от последней поездки в Париж…
…Шесть… семь… восемь минут, девять…
Я давно уже пытался остановить собеседницу, толкая ее под столом пальцем в бедро…
Никакого, ровно никакого действия мои намеки на нее не производили. Скорее наоборот – они вроде бы вдохновляли ее на продолжение рассказа.
На пятнадцатой минуте, пренебрегая правилами вежливости, я воспользовался тем, что она на середине фразы набрала воздух в легкие, и, не давая ей возможности воспользоваться этим воздухом, громко сказал:
– Спасибо, пани, вы так много и интересно нам рассказали, спасибо, спасибо, до свиданья.
Даниэлю я просто не дал слова: актриса сожрала все его время.
– Послушай, – сказал я ему после передачи, – кого ты привел? Я никак не мог остановить эту разговорную машину. Толкаю ее под столом, а она ноль внимания…
Даниэль ответил:
– Она просто думала, что ты за ней ухаживаешь…
Вот, получив несколько таких ударов, я, к великой радости редакторов, попросил записывать «Кинопанораму» заранее. Один из дикторов рассказал мне, что был на телевидении еще один случай такого же рода. Правда ли, анекдот ли? Не знаю. Как говорится, за что купил, за то и продаю.
Выступал будто бы представитель Министерства путей сообщения, рассказывал о пассажирском и грузовом движении, о графиках и новых методах работы поездных бригад и так далее. Он говорил, говорил и заговорился – никак не закончит речь, вяжет и вяжет одно к другому. Тогда помощник режиссера, стоящий рядом с камерой, сделал ему знак круговым движением пальца. Мол, закругляйся…
Оратор, увидев этот жест, наморщил лоб – что бы этот жест означал? – и вдруг догадался, сказал зрителям:
– Теперь, товарищи, я вам расскажу про окружную железную дорогу… – и пошел говорить дальше.
А потом началась переписка с телезрителями.
Я имел неосторожность предложить им присылать «Кинопанораме» письма и обещал отвечать на них.
Через месяц в комнате киноредакции, где кроме панорамы размещались работники ещё трех других кинопередач, невозможно было повернуться – мешки с письмами стояли под столами, в проходах, они лежали в шкафах и на стульях. Письма – разобранные и ждущие разбора – загромождали письменные столы…