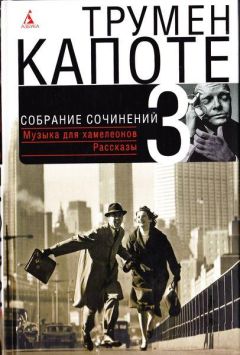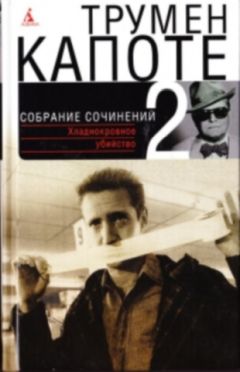Ломаный график моей литературной репутации достиг отрадной высоты, и я позволил ему задержаться там, пока не перешел к четвертому и, надеюсь, последнему этапу. Четыре года, с 1968-го по 1972-й, я посвящал большую часть времени чтению, отбору, переписыванию и сортировке своих писем, писем других людей и своих дневников (которые содержат подробные записи сотен сцен и разговоров) за 1943–1965 годы. Я хотел использовать этот материал в книге, которую давно задумал написать, — тоже невымышленном романе, но несколько видоизмененном. Я назвал книгу «Услышанные молитвы» — это из святой Терезы, которая сказала: «Больше слез проливается над услышанными молитвами, чем над неуслышанными». В 1972 году я начал работать над книгой с написания последней главы (всегда полезно знать, куда идешь). Потом написал первую главу «Неиспорченные монстры». Потом пятую — «Тяжелое оскорбление мозга». Потом седьмую — «La Côte Basque». И продолжал таким манером, сочиняя главы не по порядку. Удавалось это только потому, что фабула, вернее, фабулы были взяты из жизни, действующие лица были реальными людьми, и было нетрудно всё держать в голове, ведь я ничего не выдумывал. Однако «Услышанные молитвы» задуман не как обычный roman à clef[21], где факты поданы под видом вымысла. Мое намерение — противоположное: убрать маски, а не изготавливать их.
В 1975 и 1976 годах я напечатал четыре главы из книги в журнале «Эсквайр». В определенных кругах они вызвали гнев — считали, что я злоупотребил чужим доверием, дурно обошелся с друзьями и (или) врагами. Я не намерен здесь это обсуждать; это вопрос социальной политики, а не художественных достоинств. Скажу одно, писателю приходится работать только с тем материалом, который он собрал в результате своих усилий и наблюдений, и его нельзя лишить права им пользоваться. Осуждайте, но не лишайте.
Однако в сентябре 1977 года я прекратил работу над «Услышанными молитвами», и это никак не было связано с реакцией людей на опубликованные части книги. Остановка произошла потому, что у меня случилась чертовская неприятность: я переживал и творческий, и личный кризис одновременно. Поскольку второй не имел никакого или почти никакого отношения к первому, здесь достаточно будет сказать только о творческом хаосе.
Хотя он был мучительным, теперь я рад, что это произошло, — это изменило все мое понимание писательства, мое отношение к искусству и жизни, к соотношению между ними и мое представление о разнице между правдой и настоящей правдой.
Во-первых, я думаю, что большинство писателей, даже лучшие, выписывают слишком много. Я предпочитаю недописывать. Просто, ясно, как деревенский ручей. И я почувствовал, что мое письмо становится слишком густым — я трачу три страницы, чтобы добиться эффекта, которого мог бы достичь одним абзацем. Снова и снова я перечитывал всё, что написал в «Услышанных молитвах», и засомневался — не в материале и моем к нему подходе, а в самой текстуре письма. Я перечитал «Хладнокровное убийство» — и с тем же ощущением: слишком во многих отношениях я писал не так хорошо, как мог бы, не полностью использовал потенциал. Медленно, но с нарастающей тревогой я перечитал каждое свое опубликованное слово и решил, что никогда, ни разу в моей писательской жизни не выплеснул всей энергии и эстетического волнения, заложенного в материале. Даже когда написанное было хорошо, я видел, что работал впол-, а то и в треть отпущенной мне силы. Почему?
Ответ, открывшийся мне после месяцев размышлений, был простым, но не очень обнадеживающим. Он нисколько не облегчил мою депрессию — наоборот, усугубил ее. Ибо ответ порождал, по-видимому, неразрешимую проблему, и, если я ее не решу, впору бросать писательство. Проблема же была такова: как сочетать писателю в рамках определенной формы — к примеру, рассказа — всё, что он знает обо всех других литературных формах? Ибо из-за этого моя проза зачастую страдала недостатком освещения; ток подавался, но, ограничивая себя техникой той конкретной формы, в которой я работал, я не использовал всего, что знал о письме, — всего, чему научился на сценариях, пьесах, репортаже, поэзии, рассказах, новеллах, на романе. Писатель должен пользоваться всеми своими умениями, располагать всеми красками на одной палитре, чтобы смешивать их (а в нужный момент и накладывать одновременно). Но как?
Я вернулся к «Услышанным молитвам». Убрал одну главу и переписал две другие. Стало лучше, определенно лучше. Но выяснилось, что я должен снова поступить в детский сад. И снова эта мрачная, рискованная игра! Но я был взволнован, я ощущал на себе свет невидимого солнца. И все же первые мои опыты были корявыми. Я вправду чувствовал себя ребенком с коробкой цветных карандашей.
С технической стороны самым трудным в «Хладнокровном убийстве» было полностью устранить себя из повествования. Обычно, чтобы достичь правдоподобия, репортер выступает в качестве персонажа, наблюдателя, очевидца. А я считал, что тон книги, как будто бы отстраненный, требует отсутствия автора. И старался по мере возможности остаться невидимым.
Теперь же я вывел себя на авансцену и перестроил на строгий, минималистский лад будничные разговоры с обыкновенными людьми: управляющим моего дома, массажистом в спортивном зале, старым школьным другом, с моим зубным врачом. Исписав сотни страниц такой бесхитростной прозой, я в конце концов выработал стиль. Нашел каркас, который мог принять в себя всё, что я знал о письме.
Позже, слегка видоизменив метод, я написал невымышленную повесть («Самодельные гробики») и несколько рассказов. В результате получилась эта книга — «Музыка для хамелеонов».
Как это сказалось на продолжении работы над «Услышанными молитвами»? Очень существенно. А пока что я здесь один в моем темном безумии, наедине с моей колодой карт — и, конечно, кнутом, который вручил мне Бог.
(эссе, перевод В. Голышева)
Она высокая и стройная, лет семидесяти, седая, изящная, не черная, не белая — золотистая, цвета рома. Мартиникская аристократка, живет в Фор-де-Франсе, но есть у нее квартира и в Париже. Мы сидим на террасе ее дома, просторного, элегантного дома, построенного будто из деревянных кружев; он напоминает мне некоторые старые дома в Новом Орлеане. Пьем мятный чай со льдом, слегка приправленный абсентом.
По террасе бегают наперегонки три зеленых хамелеона. Один замирает у ног мадам, выбрасывает раздвоенный язык, и она замечает:
— Хамелеоны. Удивительные создания. Как они меняют окраску. Красные. Желтые. Светло-зеленые. Розовые. Лиловые. Вы знаете, что они очень любят музыку? — Она смотрит на меня красивыми черными глазами. — Вы мне не верите?
Днем она рассказала мне много любопытного. Что ночью ее сад кишит огромными ночными мотыльками, что ее шофер, важный господин, который привез меня к ней на темно-зеленом «мерседесе», отравил свою жену и бежал с Чертова острова[22]. Она описала деревню в северных горах, где живут исключительно альбиносы: «Маленькие люди с розовыми глазами, белые как мел. Иногда их встречаешь на улицах Фор-де-Франса».
— Конечно, я вам верю.
Она наклоняет серебряную голову:
— Нет, не верите. Но я вам покажу.
С этими словами она переходит в салон, прохладную тенистую комнату с медленными потолочными вентиляторами, и садится за отлично настроенный рояль. Я остаюсь на террасе, но отсюда мне видно ее — элегантную пожилую даму, в которой смешалось миого кровей. Она начинает сонату Моцарта.
Постепенно собрались хамелеоны: десяток, еще десяток, в большинстве зеленые, несколько алых и лиловых. Они пробегали по террасе и располагались в салоне — чуткая, увлеченная музыкой аудитория. Но музыка оборвалась: моя хозяйка вдруг встала, топнула ногой, и слушатели рассыпались, как искры от взорвавшейся звезды.
Теперь она смотрит на меня:
— Et maintenant? С'est vrai?[23]
— В самом деле. Но это так странно.
Она улыбается:
— Alors[24]. Весь остров переполнен странностями. Вот этот дом населен призраками. Их здесь много. И не только ночью. Иные появляются средь бела дня, вполне нахально. Дерзко.
— На Гаити это тоже обычное дело. Призраки часто прогуливаются днем. Однажды я видел целую компанию — они работали в поле под Петьонвилем, собирали жуков с кофейных деревьев.
Она принимает это к сведению и продолжает:
— Oui. Oui[25]. Гаитяне приставляют к работе своих мертвецов. Это хорошо известно. Мы своих оставляем с их скорбями. И шалостями. Гаитяне такие черствые. По-креольски. И купаться там нельзя — страшные акулы. И москиты: громадные, назойливые. У нас на Мартинике москитов нет. Совсем.