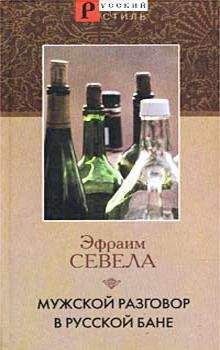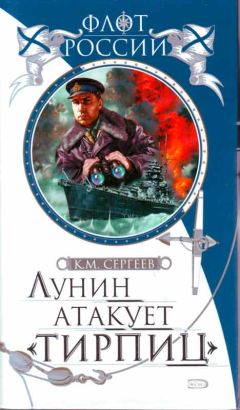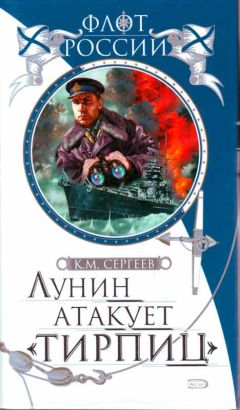В постели она была не лучше и не хуже десятков других ей подобных существ, удостоившихся принять на себя тяжесть моего избалованного тела. Но с ней дело не ограничилось одним разом. Вскоре я обнаружил себя у нее в гостях, столкнулся со светлокудрой Галочкой, напряженно и испытующе разглядывавшей меня, с замирающим сердцем пытаясь предугадать, радость или горе несет этот гость ее матери.
Таня с дочкой жили в одной комнате и ванную и туалет делили с соседями, большой семьей, занимавшей две другие комнаты этой квартиры. Я остался ночевать, раздевшись при погашенном свете и косясь на диванчик в углу, где затаилась Галочка.
Когда подо мной загудели пружины и Таня в темноте жадно обхватила меня руками, из угла донесся тоненький голос Галочки, явно пытавшейся нас подбодрить:
— Я уже сплю.
Я стал ночевать у Тани все чаще, а потом приходил туда, как к себе домой, и там в ванной прочно обосновались мои туалетные принадлежности, а в Танином шкафу лежали стопкой мои рубашки, выстиранные и отглаженные заботливыми руками.
Таня боготворила и, чуть ли не молилась на меня. Норовила предупредить любое желание. И, боясь потревожить внезапное мамино счастье, маленькая Галочка старалась изо всех сил услужить мне, и смотрела, вопросительно и тревожно улыбаясь, чтобы, не дай Бог, ненароком не вызвать моего неудовольствия.
Две женщины, большая и маленькая, служили мне с какой-то неистовой радостью и самоотверженностью. Таня, как маленького ребенка, купала меня в ванне, намыливала, нежно терла мочалкой и споласкивала струей из душа, получая от этого еще больше удовольствия, чем получал я, нежась в теплой мыльной воде. А Галочка мчалась из комнаты в ванную и обратно, целомудренно не поднимая на меня глаз из-за маминой спины и передавая ей то махровое полотенце, то специально купленные для меня тапочки большого размера.
Теперь уже все мои фельетоны печатала не редакционная машинистка, а Таня. И делала это с благоговением, упиваясь каждой, даже самой банальной моей фразой и не допуская ни одной опечатки и даже помарки. А Галочка бережно вырезала из газеты мои напечатанные опусы и наклеивала их на листы блокнота, превращая это в самодельную книгу, разрисованную и раскрашенную ее ручкой.
Авторское самолюбие провинциального журналиста, как вы можете догадаться, было тронуто, и великий небожитель, каким я выглядел в их глазах, соизволял отпускать им милостивую улыбку и даже собственноручно потрепать детскую головку по кудрям, от чего девочка совсем замирала и смотрела на маму, стараясь прочесть в ее глазах похвалу и удовлетворение.
И хоть я был эгоистом отчаянным и занимался только собственной персоной, благо, обе мои няньки сами меня таким делали, все же иногда я слушал Танину робкую исповедь, и из ее рассказов мне стало ясней вырисовываться ее прошлое и обстоятельства, при каких Галочка появилась на свет. Без отца. Даже ни разу не услышав его имени.
Танина история, должен признаться, открыла мне, скоту, не достойному ее мизинца, какое душевное богатство таится в русской женщине, какая пропасть самоотверженности и терпения в ней, какая бездна тепла, готового согреть любого, переполняет ее любвеобильное сердце. И хоть платят ей за это чаще всего черной неблагодарностью, она не озлобляется и по-прежнему смотрит на мир добрыми глазами и ищет того, кто нуждается в тепле и ласке, и готова без остатка отдать себя ему.
Во время войны Таня была партизанкой, и в доказательство того, что она там не пустяками занималась, а воевала наравне с мужчинами, в тумбочке у кровати валялись боевые медали «За победу над Германией», партизанская медаль и орден Красной Звезды. Таня их не носила, стыдясь, как бы это не выглядело бахвальством, и медали и орден перешли во владение к Галочке, и она одевала их на кукол, пока не подросла и не забросила и медали и кукол.
Тане еще не исполнилось шестнадцати лет, когда началась война и немцы подошли к Волхову, где она училась в медицинском училище, готовясь стать сестрой милосердия. По случаю того, что враг подошел к городу, студентов распустили по домам, и Таня пешком побрела в свою деревню. Деревни она не нашла, сгорела во время боев, и вся местность вокруг была занята немцами. Уцелевшие жители прятались в окрестных лесах. Таня отправилась туда, в надежде разыскать родителей, но и их она тоже не нашла. Осталась девчонка одна-одинешенька. Жила по чужим углам. То картошки поможет крестьянке накопать, то окажет медицинскую помощь — как-никак два года не зря просидела в медицинском училище, — тем и перебивалась.
Потом объявились в лесах партизаны. Немцы усилили гарнизоны в деревнях, на лесных дорогах поставили посты, передвигаться с места на место стало опасно. Попадешь в облаву и — поминай, как звали. Как рабочий скот угоняли оккупанты молодых парней и девчат в Германию.
Таня решила найти партизан и стать у них санитаркой. Долго искала и нашла. Задержал ее на лесной тропке партизанский дозор и препроводил под конвоем к начальству, схороненному в потайном бункере в лесной чаще.
Таня пошла в партизаны не спасения ради, а чтоб исполнить свой патриотический долг и быть полезной Родине в столь трудный для нее час. Ведь она — обученная санитарка, а партизаны остро нуждались в таких людях. Она не ожидала торжественного приема и фанфар, но то, что партизаны с радостью встретят ее, в этом она не сомневалась.
И была жестоко наказана за свою наивность. Партизанский командир, человек грубый и несентиментальный, в каждом пришельце видел подосланного врагом лазутчика и, дыша в лицо Тане спиртным перегаром, спросил в упор:
— Признайся, когда тебя завербовали и с каким заданием послали?
У Тани от обиды из глаз брызнули слезы. Она стала торопливо, сбиваясь и всхлипывая, объяснять, кто она такая и почему искала партизан.
— Москва слезам не верит, — отрезал командир. — Не сознаешься — поставим к стенке и расстреляем, как собаку.
Таня зарыдала еще горше.
— В расход! — приказал командир, и два молодых партизана в крестьянской одежде и в трофейных немецких сапогах повели ее, плачущую, из бункера в лес, поставили к шершавому стволу старой сосны, отошли на пять шагов и навели на нее дула винтовок.
Таня еле держалась на подкашивающихся ногах, и если б не ствол сосны, на который она опиралась спиной, то рухнула бы наземь без чувств.
Как сквозь сон доносились до нее слова, произносимые партизанами медленно, с расстановкой:
— По изменнику Родины, немецкой курве — огонь! Таня зажмурила глаза и вжалась спиной в шершавый ствол, ожидая услышать треск выстрелов, прежде чем она расстанется с жизнью. Но выстрелы не прозвучали.
— Отставить, — добродушно сказал партизан. — От, чертова девка, пули не боится. Ну, сейчас, полагаю, язык развяжешь.
Ее отвели обратно в землянку, и тот же командир повторил свой вопрос:
— Признайся, сука, когда тебя завербовали и с каким заданием послали?
Еще два раза водили Таню к старой сосне, зачитывали приговор и отдавали команду:
— Огонь!
И не стреляли, а тащили ее, уже не способную ходить, на очередной допрос в бункер.
После третьего раза командир партизан рассмеялся и, удовлетворенно потирая ладони, сказал:
— Молодец, девка! Выдержала экзамен. Добро по жаловать в партизанскую семью! Нам санитарки нужны позарез.
Так началась ее жизнь в партизанах, и оказалась девка к месту: много добрых дел сделала, не одного раненого партизана выходила, вернула в строй. Ее в отряде ценили и по случаю ее несовершеннолетия берегли от недоброго мужского глаза. Одна среди сотни отчаянных бесшабашных мужчин, Таня оставалась невинной, и никто не отважился приударить за ней. Хоть спали они порой вместе, вповалку, согревая друг друга теплом своих тел. Все бы шло хорошо, не случись одно событие, перевернувшее впоследствии всю ее жизнь.
Как известно, партизаны не брали в плен солдат противника. Если кто и попадался живьем, то его, хорошенько допросив в бункере, расстреливали где-нибудь неподалеку, а если противник находился поблизости, то, чтоб не выдать себя шумом выстрела, закалывали штыками. Таков был неписаный закон партизанской жизни: жестокий и беспощадный, как сама эта жизнь, и вполне оправданный условиями, в каких протекала эта — жизнь. Пленного некуда было девать — лес окружен противником, который всегда может нагрянуть, а терять боеспособного партизана на его охрану было нелепостью, да и лишний рот в их полуголодном быту был неразумным роскошеством.
Пленных ликвидировали через час-другой после поимки, и к этому привыкли, как каждый привык к тому, что может сам умереть в любой момент, и никто не испытывал угрызений совести. Даже Таня. Партизанская жизнь закалила ее, притупила чувствительность.
Однажды, напав на немецкий транспорт на лесной дороге, партизаны, кроме богатых трофеев, прихватили с собой «языка» — живого немца, из которого можно выколотить на допросе важные сведения.