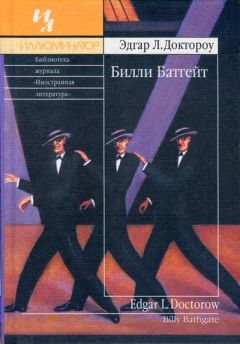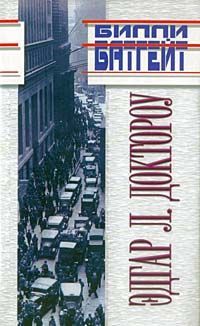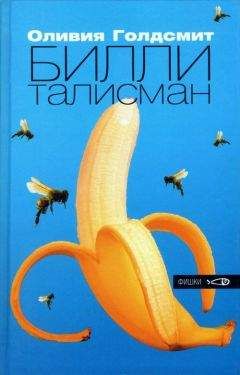— Прошу прощения. Человек, о котором вы говорите, ну, тот, который в церковь приезжал… миссис Престон мне о нем кое-что сказала.
Я сейчас расскажу об этом моменте, расскажу, что я думал о своем поступке или, точнее, о том, что я думаю сейчас о том, что я думал о своем поступке, именно в этот миг все решилось, я думаю об их смерти, о том, как они умирали, но больше всего об этом решающем миге, о том, откуда все пошло, не из сердца или головы, но изо рта, словородителя, инструмента хмыканья и стона, крика и визга.
— Она знала его. Не то чтобы знала, но встречала раньше. И не то чтобы она помнила, как встречалась с ним, — говорил я, — и могла наверняка это сказать. Но она пила, — тут я взглянул на Ирвинга, — она сама мне об этом сказала, а когда пьешь, многого ведь не помнишь? Но вот около церкви Святого Варнавы, — говорил я, обращаясь уже к мистеру Шульцу, — она чувствовала, когда вы знакомили их, что он смотрит на нее так, будто узнал ее. Она считает, что раньше они, должно быть, встречались.
В «Мясных лакомствах» стало так тихо, что я слышал, как дышит мистер Шульц, его манеру дышать я знал не хуже его голоса, мыслей, характера, вдыхал он медленно, а выдыхал быстро, в ритме «раз, два», причем между вздохами оставалась пауза, словно он размышлял, стоит ли дышать дальше.
— Где она его видела? — спросил он очень спокойно.
— Она думает, что где-то с Бо.
Он повернулся к мистеру Берману, откинулся на стуле и сунул большие пальцы рук в кармашки жилета.
— Ты слышишь, Отто? Ты ищешь, ищешь, а ребенок приходит и, как всегда, ведет тебя за руку.
В следующий миг он вскочил со стула и врезал мне по голове; мне показалось, что он бил не ладонью, а предплечьем, не знаю, что случилось, но комната закружилась; мне почудилось, что произошел взрыв, комната падала на меня; я видел, как опустился потолок и подпрыгнул пол; я летел назад через стул, падал спиной; шлепнувшись на пол, я стал шарить вокруг, стараясь зацепиться за что-либо, поскольку мне казалось, что пол двигался. Затем я почувствовал ужасную пульсирующую боль в боку, раз за разом, это он бил меня ногой; я попытался уползти прочь, кричал, стулья скрипели, все одновременно заговорили, его оттаскивали; Ирвинг и Лулу буквально оторвали его от меня, я понял это позднее, когда до моего сознания стали доходить их торопливые, сдавленные от напряжения слова, это ребенок, босс, ради бога, оставь его, оставь его в покое.
Затем, повернувшись на спину, я увидел, как он стряхнул их с себя и поднял руки.
— Все нормально, — сказал он. — О'кей. Со мной все в порядке.
Он дернул воротник, поправил жилет и сел на стул. Ирвинг и Лулу взяли меня под руки и рывком поставили на ноги. Мне было скверно. Они подняли мой стул и посадили меня на него, а мистер Берман дал мне бокал вина, я взял его двумя руками и сумел сделать несколько глотков. В ушах звенело, и при каждом вздохе в боку возникала резкая боль. Я выпрямился, тело раньше головы смиряется с тем, что случилось, я знал, что, если сяду прямо и буду дышать неглубоко и через нос, боль немного отпустит.
Мистер Шульц сказал:
— Слушай, малыш, это за то, что ты мне раньше не сказал. Услышав такое от этой шлюхи, ты должен был сразу ко мне прийти.
Я закашлялся осторожным лающим кашлем, который доставлял неимоверную боль. Потом отпил еще немного вина.
— Это была первая возможность, — солгал я. Чтобы прорезался голос, мне пришлось покашлять, я хотел выглядеть обиженным, а не испуганным. — Я все это время выполнял ваши поручения.
— Извини, я закончу. Сколько у тебя осталось от тех десяти тысяч?
Дрожащими руками я вынул из бумажника пять тысячедолларовых банкнот и положил их на белую скатерть.
— Ладно, — сказал он и взял четыре бумажки из пяти. — Это тебе. — Он пихнул пятую банкноту ко мне. — Месячный аванс. Теперь ты будешь получать двести пятьдесят долларов в неделю. Такова справедливость, понятно? За одно и то же ты заслужил и головомойку, и деньги. — Он оглядел сидящих за столом. — Больше никто ничего не хочет сказать о наших делах в городе?
Никто не произнес ни слова. Мистер Шульц разлил вино по бокалам и выпил свой, громко причмокивая.
— Теперь я чувствую себя лучше. Мне сразу не понравилось то совещание. Мне было не по себе. Я не умею входить в долю. Я не знал, с чего начать. Я индивидуалист, Отто. Я никогда никого ни о чем не просил. Все, что я имею, я добился собственным трудом. Я много трудился. И теперь я там, куда сам пришел, и желания у меня свои, а не чужие. А вы толкаете меня в компанию идиотов и говорите, что я должен заботиться об их интересах. А мне насрать на их интересы. Вот и все. Мне плевать, сколько прокуроров за мной охотятся. Именно это я и пытаюсь внушить вам. У меня просто слов не хватало. А теперь я их нашел.
— Это еще ни о чем не говорит, Артур. Бо любил развлечения. Это могло быть на скачках. Или в клубе. Это ни о чем не говорит.
Мистер Шульц покачал головой и улыбнулся.
— Мой дорогой Аббадабба, я и не знал, что числа — пища для мечтателей. Человек клянется мне в верности, а его клятва пшик, человек работает на меня все эти годы, а стоит мне отвернуться, как он тотчас же предает меня. Я не знаю, кто подкупил его. Кому в Кливленде пришла в голову такая идея?
Мистер Берман говорил очень взволнованно:
— Артур, он не дурак, он бизнесмен, он рассматривает возможности и выбирает самый легкий путь, вот в чем философия всей комбинации. Ему не обязательно было видеть девчонку, чтобы подобраться к Бо. И ведь он оказал тебе уважение.
Мистер Шульц отодвинулся от стола. Он вынул четки из кармана и начал крутить их, они хрустнули, а потом закрутились в обратном направлении, перехлестнувшись, они наконец остановились.
— Кто скурвил Бо? Я вижу твою комбинацию насквозь, Отто. Я вижу, что весь говенный мир против меня. Я насквозь вижу мерзавца, который идет со мной в церковь, клянется в братской любви, обнимает и целует в щеку. И это любовь? Эти выродки любят меня так же, как я их. Это что, смертельный сицилийский поцелуй? Ну, говори.
Вот так я стал пасти Томаса Э. Дьюи, прокурора по особым делам, ответственного за борьбу с бандитизмом, будущего окружного атторнея, губернатора Нью-Йорка и кандидата в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии. Он жил на Пятой авеню в одном из тех каменных домов, которые соседствовали с Центральным парком, это было чуть севернее «Савой-Плаза»; через неделю я уже хорошо знал район, обычно я слонялся на парковой стороне улицы или прогуливался вдоль парковой стены, в тени платанов, иногда развлекался тем, что пытался ходить, не наступая на линии шестиугольных плит тротуара. Солнце приходило ранним утром из боковых улочек, заполняя их одну за другой светом и стреляя на перекрестках, словно из лучевых пушек Бака Роджерса; я все время думал о выстрелах, я слышал их в чихании моторов грузовиков, видел в лучах света, читал в меловых линиях детских рисунков на тротуарах; когда я следил за прокурором, готовя на него покушение, все в моем мозгу было связано с выстрелами. Вечером солнце опускалось за Вест-сайд, и каменные дома Пятой авеню светились золотом окон и белизной известняковых фасадов, на всех этажах горничные в формах задергивали шторы и опускали жалюзи.
В те дни мистер Шульц был мне особенно близок; я остался единственным верным ему по духу человеком, его ближайший советник осудил его намерения, двое его самых надежных помощников и телохранителей потеряли уверенность; я один понимал его сердцем, вот что я тогда чувствовал; должен признаться, мне льстило быть с ним рядом в его глубочайшем падении; пусть он треснул меня по голове, колотил ногами по ребрам, но теперь я его искренне любил; я простил его, я хотел, чтобы и он любил меня, я знал, что стерплю от него унижения, какие от других терпеть ни за что не буду; например, я все еще не простил Лулу Розенкранца за мой сломанный нос и до сих пор ежился от воспоминания, как в самом начале моего знакомства с бандой в лотерейной конторе на 149-й улице мистер Берман с помощью одного из самых дешевых своих математических трюков умыкнул у меня двадцать семь центов, мистер Берман с тех пор стал моим наставником, великодушно делился знаниями, воспитывал меня, и тем не менее я не смог простить ему потерю нескольких мальчишеских пенни.
Нельзя сколько-нибудь успешно следить за человеком, если ты не сумел стать незаметным, хорошо вписаться в ландшафт. Я купил самокат, надел хорошие брюки и водолазку и так провел день или два, потом в магазине домашних животных купил щенка и начал водить его на поводке, правда, люди, которые рано по утрам прогуливают своих собак, все время останавливались, чтобы сказать, какая прелесть мой малыш, а их собаки в это время обнюхивали его маленький вихляющий зад; это мне не нравилось, так что я отнес щенка обратно в магазин, и только когда я взял у матери на несколько дней ее плетеную коляску и отвез ее на такси в центр города, чтобы возить ее с видом старшего брата, вышедшего погулять с младенцем, я понял, что наконец-таки нашел нужную маскировку. У Арнольда Помойки я купил за два доллара куклу в чепчике, который закрывал ей лицо, люди любят прогуливать своих детей рано утром, иногда няньки в белых чулках и голубых плащах толкали перед собой богато отделанные подпружиненные лакированные коляски с сетками от насекомых, поэтому и я купил сетку и набросил ее на свою коляску; даже если бы какая-нибудь пожилая дама действительно сунула туда свой нос, то вряд ли бы что увидела; я то прогуливался, то сидел на скамейке прямо напротив его дома и качал коляску или же осторожно тряс ее на сломанных пружинах; так я выяснил, что ранним утром меньше всего людей и неожиданностей и что раннее утро — лучшее время, чтобы разделаться с мистером Дьюи.